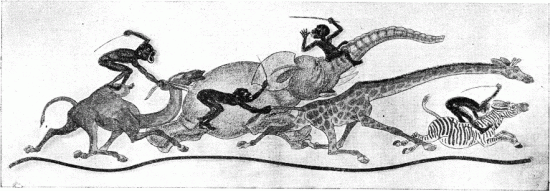Дождь бьет в окна небольшого деревянного здания на пригорке, окруженном редким березняком. Из окон, мелькая сквозь полосы дождя, струится свет. Около здания столб. Столбы бегут и дальше, вдоль дороги. С крыши тянется по столбам провод.
В большой комнате — красноармейцы. Группа обступила табурет, разграфленый чернильным карандашом на 32 белых и 32 черных квадрата, и сосредоточенно наблюдает медлительный бой пешек, тяжелую поступь ладей.
У входа, в деревянной стойке — тусклый ряд вытянувшихся короткошейных винтовок.
Рядом в соседней комнате сидит товарищ Петряков. У него огромная голова, вся поросшая светлым пухом, и большие полудетские глаза. Когда Петряков вскидывает ими на вас, кажется, что он хочет спросить о чем-то до крайности нужном и спешном.
На столе перед товарищем Петряковым — кружка недопитого чая, пояс с кобурой, телефон и сборник рассказов Зощенко.
Дверь на ветру хлопает, и в сенях слышен говор...
Вошел в шинели с поддятым воротником, вымокший весь.
— Проклятый климат! Днем жара, вечером потоп...
Петряков откладывает обольстительноого Зощенко в сторону.
— Шпарит?
— Ух, подллюга. Промок до кишок!
Сбросил шинель и потопал набухшими от сырости сапогами. По полу — маленькие ленивые ручейки.
— Ну, как?
— Да ничего. Так...
Петряков иронически погрыз спичку, взглянул на товарища и пробормотал:
— Хотел бы я знать, какая дура уронила тебя, Илья, в детстве? Ни-че-го. Ta-aк... Тут каждый день из управления чуть не матом кроют, Журавлев черный кофе по ночам пьет... наш Батум всю Россию в чулки фильдекосовые одевает, а он — ни-че-го, та-ак...
— Не злись, Петряков! Дай время — все уладим.
— Дай вре-мя! — не успокаивается нерв в Петрякове. — Ишь ты, шут какой! Тут годить не приходится. Глядишь, такой смелости наберутся — на автомобилях проезжать будут, да в чулках своих провезут чорт зна... Слыхал, из военкомата списки пропали?
— Слыха-ал.
— Вот тебе и «Коти», на легком катере...
Стащил мокрые сапоги и, размахивая по-полу спадающими портянами, сунул сапоги за печурку. Потом залез на скамью и, закинув ногу на ногу, а руки под голову, принялся считать щели на потолке.
На столе хрипло брякает телефон.
— Ну? Застава номер три! Да-да... А? Петряков! Да!... Ага... Хорошо. Что? Так, нет же, товарищи дорогие! Все... что? А чорт их знает, зачем? Так ей же ей... Хорошо! Слушаю...
Повесил трубку и посмотрел на скамью.
— Что? Кто?
— Кроют. Вот что... Опять лавочку накрыли. Говорят: кокаин с неба не валится.
— Фа-акт...
— Вот тебе и факт. Это Джафар орудует, я понимаю. Эх-ма! Кабы глаз тьма!
Из-под рукава — белый циферблат часов. Подвязал пояс.
— Третья смена!
В соседней комнате завозились, забряцали винтовками.
Топот каблучков по притихшему батумскому бульвару — камешки в колодец падают. Тук-тук-тук.
От быстрого шага лица раскраснелись, белые платьица складками разлетаются, сумочки на руках подпрыгивают, как заводные.
Улицы мягко обволакивались вечерними тенями. Жара спала, прохлада пробивалась ручейком.
— Мы наверно опоздаем.
— Ничего. Они могли только-что сесть за стол. Но, Борис, верно, ногти грызет!
— Ха-ха-ха!
— Жоржик Лукницкий банджо обещал принести, настоящий джаз-банд устроим.
— Чудесно! Говорят в Москве джазы прямо напрокат сдаются... Вот поживу я там!
— Ваши окончательно решили переехать?
— Папа сказал, что осенью — обязательно. Ему там выгодную службу кто-то предлагает.
— Да, да, мне Густав Федорович говорил, я теперь вспоминаю.
— Он очень хороший, папка. А уж я довольна — ты себе представить не мо-ожешь! Тут я родилась, тут всю жизнь провела, — надоело, ужас! Живешь, как царевна-несмеяна, невеста на выданьи — поду-у-маешь.
Сзади раздалиь шаги случайного пешехода.
— Идем скорее, Лиза.
— Ничего, успеем... Ты знаешь, Муся, я хочу сегодня всем сделать одно предложение.
— Какое это?
— Пикник!
— Ну-у, подумаешь...
— Да постой же, выслушай. Не простой пикничок а-ля наши прабабушки. В детстве мне папка — когда он еще служил не в военном комиссариате, а в кавказcком военном округе, — часто показывал запущенные пещеры и ходы, недалеко отсюда, которые рыли еще древние турки. Вот замечательно! Мы захватим закуску! Вино! Жоржика с банджо! И от-пра-вим-ся пировать, фокс танцовать, в места, пахнущие легендами. Я их все знаю... Вот будет замечательно!
— Скорее, мы уже пришли.
Обе заверну ли за угол и скрылись в подъезде.
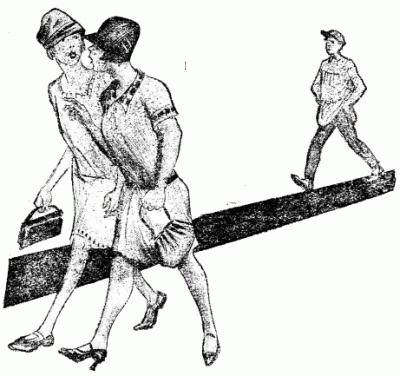
Раздававшиеся позади шаги вынесли к углу фигуру парня.
— Ишь штучки... А занятно, гм... Не будь я Васькой, если... Пещеры, говорите?.. Древние турки?.. Гм...
Парень потоптался на месте и скрылся за углом.
Разукрашенный золотыми галунами бой в красной феске внес содовую воду.
Толстый палец ткнул в полированную поверхность столика:
— Here!
— Yes, mister.
Мистер Лайф весь в голубом призрачном облаке, ниткой вытягивающемся из толстой черной сигары.
Сквозь приспущенные шторы окон — горячее золото южного солнца.
Гул прибоя равномерно и мягко тревожит и вместе баюкает слух. Прибой у Траnезунда — ленивый, весь в устали сnокойствия, зеленовато-голубой, беспенный.
Внизу на улице — турецкие офицеры в расстегнутых кителях, дамы, изнывающие от солнца и губной помады. Маленькие кафе полны до-отказа...
Под шестипудовой тушей англичанина — тоненький жалобный писк турецкого кресла. Разморенный жарой мистер Лайф дремлет...
Стук в дверь...
Тяжелые веки приподымаются:
— Yes, come in!
В комнату входит небольшой человечек с крысиной физиономией, в порыжелом котелке и длинном черном сюртуке, похожем на пальто.
— Good day, — басит очнувшийся мистер.
Морща лоб, поправился:
— Здрасте!
— Осмелюсь спросить о здоровье, — точно горошком изо рта сыпанул человечек, обнажая коричневые ряды сгнивающих зубов.
— Ничего. Хорошо. Sit down! Что новое?..
Снял котелок, точно стекло, осторожно положил на стул и уселся на диван самым кончиком крестца.
— Что новое, господин польковник?
— Все весьма и весьма благополучно, — заторопился полковник в сюртуке, — с иголками покончено полностью, с манчестерскими то же. Сперва, правда, спрашивали бостон но когда увидели нашу в клетку, то, смею доложить, взяли не торгуясь. Вот-вот именно! Совдепия со всеми своими Иваново-Вознесенскими не стоит и отрезанного края манчестерского сукна... Хи-хи-хи-и! — рассыпался полковник coвceм не полковничьим смехом. — Комиссарские жены аба-а-жают манчестер... Немножко, правда, не и-де-о-ло-ги-чес-ки, хи-хи! как изволят выражаться rоспода товарищи.
— Ага... гм... угу... — мычит в знак одобрения мистер Лайм, — это харошо...
— Смею доложить, что...
— Остановитесь доложить, господин польковник! Я сам вас спрашивать. Сода?
— Премного благодарен-с... не xочу-c.
— Какая оборот-зумма все время до сегодня?
Со всех групп до 10.000 долларов, за одну последнюю неделю. Трудно знаете, становится... с каждым разом людей меньше. Понимаете? Ну-с, с группы Джафара получено 5.000, кроме одной тысячи премиальных, которые вы приказали вычесть из его долга за... за...
— Знаю.
— Смею доложить... мнение, так сказать... Джафар один из лучших наших контрагентов... хи-хи-хи-и!. Ткани ли, кокаин, граммофонные иголки...
— Послуште, господин польковник! Вы зовсем, как малый дитя, не можете понимайт до сих поры, что грамофон-иголка, и... этситра все так, этой мой личный инициатив. А, главное, первое — это го-су-дарствен-ной дело! Важность!... Какой вы позле этого офицер русской hwnit-apмия? Вам выбиль под Перекоп все соображенье?... Papers! Бумаги!
В дрогнувшем подбородке, быстро закивавшем, — суета. Полковник покраснел, встал, снова сел, выгибая тщедушную грудь колесом и поглаживая голову:
— Совершенно верно... Однако, под Перекопом... Не извольте беспокоиться... часть уже получена.
Из внутреннего кармана расстегнутого сюртука глянула белая связка бумаг.
Пятерня всеми пухлыми пальцами ухватилась за хрустнувшуюся обертку, — точно когтями впилась. В глазах — довольные огоньки, жадные искринки. Ниитка, свисаясь, — на пол. Очки — на нос.
— Так... ага... мобилиз... план... well!.. ин-струкция... кто достовляль?
— Он же, Джафар. Смею доложить...
— Никакой доложить. А снимки... э этих... э ангаров... ага. А почему нет топография? расположенье?..
— Осмелюсь доложить. Невозможно все сразу... Могут быть подозрения, наш человек у них на виду, опасно. Притом, сами знаете... гм... ну...
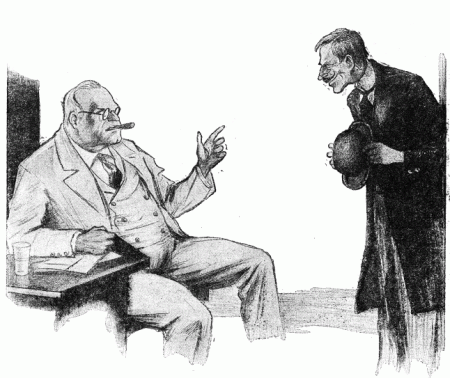
Мистер Лайф качнул головой. Привычным движением шелестнул ассигнациями. Хрустко отдалось в ушах.
— Take! Остальное скорее.
Полковник привскочил чуть, спрятал деньги в задний карман. С высокого целлулоидового воротничка соскочил nоклон.
Мистер Лайф довольно потянулся. Палец ушел в перламутр звонка.
— Soda water! One!.. Слюште, nольковник, если вы доставать приказ с центр, ваш процент с контрабанда поднимается с 5 на 10! How do you like?
Полковник приложил котелок к сердцу, проговорил «слушаюсь» и бесшумно исчез из комнаты.
«Выписка из протокола собрания коллектива ВЛКСМ Батумского Кожевенного· завода им. т. Рыкова, 27 июня 129... г.
Слушали:
О непосещении трех собраний тов. Огулиным, Василием, без уважительных причин.
Тов. Марджаев говорит, что Васю подтянуть надо и нагрузить, как следует, чтобы обязанности имел.
Тов. Хохряков говорит, что Вася озабочен стихами, которые пишет пачками, и каждый день почтальон ему приносит кучи писем из редакции с Васиньnми стихами с пометкой «возвр.», и что такое поведенье не достойно комсомольца.
Тов. Лиюарчуг протестует: нехай Вася пишет, из него, может быть, Маяковский выйдет, которого, говорят, в детстве изо всех редакций в шею гнали, — но пусть не забывает своих прямых комсомольских обязанностей, потому что одними стихами, даже хорошими, мировую революцию не устроишь.
Тов. Чечеридзе, отсекр, предлагает вызвать тов. Васю Огулина на бюро.
Постановили:
Вызвать Ваську Огулина, как саботажника и злостного упадочника, на бюро и поставить на вид.
Верно: секретарь Холкин Иван».
Слава Джафара перекинулась далеко за пределы Батума.
Не было на всем юге более отчаянного чемпиона контрабанды и схваток с пограничниками.
Он пробирался через турецко-советскую границу целыми караванами в 20—30 человек, до зубов вооруженных и до головы нагруженных. Стоило встретиться банде с одиночкой-пограничником — отрывистый выстрел раздавался в глуши, и фуражка с красной звездой, подпрыгивая, катилась в ров. Банда распылялась тотчас же по хуторкам и закоулкам так, что никакие поиски и облавы не могли обнаружить следов. И товарищ Журавлев грыз тогда в управлении ногти.
Если же банда встречала целую группу пограничников — даль, холмы и леса вздрагивали от выстрелов, дымки подымались из кустов, на ближайших постах пограничники вскакивали на седла и открывали предохранители бомб, — чтобы, прискакав к месту схватки, найти лишь раненых, да одного-двух убитых.
А Джафаров след терялся.
Задержанные отнекивались незнанием, и скамьи подсудимых пестрели только рядовыми бандитами.
В такие дни пороли горячку в управлении, на заставы посылались резервы и производились повальные обыски у подозрительных лиц.
Прав был товарищ Петряков, когда говорил, что Батум всю Россию в контрабандные чулки одевает. Но выразился он несколько не точно: не столько Батум, сколько Джафар. У него был лучший товар от лучших иностранных комиссионеров, наши отечественные спекулянты в очередь покупали у него контрабанду — тончайший, как шелк, бостон на радость нэпманским модницам, кокаин в глухие переулки Москвы, граммофонные иголки спекулянтам с Сухаревки, губную помаду харьковским дамам, фильдекос и джемперы батумским дачникам.
Но никогда еще ни один спекулянт не удостаивался высокой чести покупать у Джафара лично. Мелочью герой контрабанды не занимался. Он сдавал все приказчикам своим в тихих улочках Батума, и те уже выколачивали червонцы за гроссы и дюжины.
И, конечно, имя Джафара было связано с несколькими шпионскими процессами. «Плох тот контрабандист, который занимается шелком и не думает о секретных бумагах управлений и департаментов», — эту прописную истину пограничных бандитов крепко усвоил и Джафар.
Бандит промышлял не только по эту сторону границы. В его руках шелестели доллары и фунты из трапезундских отелей и кабаков.
Десятки перекупщиков попадались в цепкие руки ГПУ, груды товаров уходили на аукционы, десятки приятелей и помощников Джафара были расстреляны по приговорам судов. Еще все помнили громкое дело взлома несгораемого шкафа в местном отделе совнархоза; преступники сели на скамью подсудимых. А Джафаров след терялся!
Вот и теперь — новое дело. Пропали секретные списки из военкомата...
— Ребята! Что с Васькой-то делается?
— А что такое?... Что? В чем дело?
С подушек торчком поднялись кудлатые головы. Щурясь от сильной электрической лампочки, уставились на вошедшего.
В общежитии нависла тишина. Напряженно.
— Удавился, что ли?
— Утоп?
— Повесился?
Сема Хохряков печально крутнул головой:
— Хуже! Он гибнет идеологически...
— Ну-у...
Край кровати угрюмо скрипнул под опустившимся телом. Сема охватил колени руками.
— Прихожу я к нему сегодня. Мать встречает — чуть не плачет: — взбесился Васенька, помогите! Что такое? Вхожу в комнату, вижу: стоит Васька перед зеркалом, волосянка помадой смазана, рожа как от парикмахера напудрена, брюки в дудочку, на шее гаврилка до ушей и ногами выворачивает такие крендели, что дух захватывает. Ну, думаю, не спроста. Что, говорю, Вася, в детстве падучей не страдал? Он смутился: нет, говорит, не замечал; да ты лучше у матки спроси; а что такое?.. И поворачивается ко мне лицом. И вижу я, что физиономия у него печальная, полуравнодушная и усталая.

Глаза ребят кинули недоумевающие огоньки.
Сема помолчал.
— Ну, тут-то я ему и начал выкладывать. На собранья, говорю, не ходишь, сволочь! Болен? Стихи пишешь? Нашему общежитию нагоняй от коллектива был за то, что товарища не подтягиваем! Членские взносы в МОПР не собираешь! Стихи упадочные пишешь! От нагрузки увиливаешь! Что делаешь? — Так, говорит, ничего особенного Фокстрот разучиваю.
— Ах! — удивилось собрание. — Фокстрот?...
Сема выдержал красноречивую паузу.
— Так и говорит: — ни-че-го особенно, фокстрот. Ах, ты, замечаю, сволочь-сволочь! Комсомол на пудреную харю променял? Политучебу на фокстрот выменял? Ах, ты... А он и скажи мне. Голос грустный, аж слеза меня прошибла: — пошел, говорит Сема, к чортовой матери, и без тебя тошно! Коленки болят, от пудры дух противный, гаврилка шею жмет — но! — не мешай! А товарищу Чечеридзе передай, что в скорости сам к нему с докладом буду...
— С докладом? — ахнули ребята: — ска-ажи пожалуй-ста...
Стрекот машинок медленно замирал — точно рычажки обламывались. Реже хлопали входные двери учреждений и курьеры, потягиваясь, заваривали чaй.
Время приближалось к трем часам. Конец служебной страде.
Большие карманные часы хлопнули массивной крышкой. Густав Федорович Найденов провел тыльной частью кисти по седеющим усам и запер ящик своего адъютантского стола на ключ.
В кабинете комиссара — табачный дым и огромный, зеленым сукном крытый стол. Больше ничего не видно. Брякнула опущенная на рычаг телефонная трубка; глаза ушли в бумаги.
Ручка дрожит и дверь отворяется. Адъютант.
— Из Москвы, секретное!
— Давайте.
Синие клубочки дыма — в такт вниманию: они то тянутся томкими цепочками, то расползаются густыми неровными кучами. Пальцы левой руки глухо барабанят по сукну...
— Так... Отдайте, Густав Федорович, перепечатать копию. Лично. Оставьте ее у себя, в папке срочных. Оригинал — мне.
— Слушаю.
Город бурлит в послеслужебное время. Замерли учреждения — работают магазины. По тротуарам люди, отягченные жарой и заботами, словно ленивые пауки ползают.
Остывает сутолока. Грохочут железные ставни магазинов.
За домами стали собираться длинные тени. Солнце брызнуло в стекла расплавленным металлом и медленно упало за горизонт... На небе, точно порванные нитки, остались чуть вздрагивать перистые облачки.
Зажглись электрические фонари.
Толпы людей осадили кассы кино. Длинные вереницы гуляющих в центре исшаркивали подошвами нагретые за день плиты.
На окраинных улицах темнота и тишина, — будто застывший темный крем в свернутых трубочках.
По Колокольному переулку медленно и уважительно ступают восемь коровьих копыт. Ленивый мальчишка, останавливаясь у каждого окна, похлопывает длинным суком.
Человек вынырнул из боковой улицы и деревянные мостки глухо задергались под крупными шагами. Мальчишка увидел военную шинель и усы — засвистал «Буденного».
Человек вошел в ворота дома № 7, поднялся по замызганной кошками лестнице. Звонок отдался где-то хрипло и уныло.
В щель двери глянуло лицо старика.
— Мустафа дома? Скажите, что... Густав Федорович.
Голова скрылась; через минуту выглянула снова, прошамкав.
— Патжалуста.
Адъютант прошел из кухни в небольшую, хорошо освещенную комнату. От стола отделилась низкорослая фигура с черными длинными усами, с карандашом в руке.
Найденов подошел к фигуре вплотную и сунул руку за борт шинели:
— Из Москвы... секретное.
| Всем! Всем! Всем! ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ-БАЛ! Танцы всю ночь! В помещении кино Арс. Серпантин! Вино! Буфет! Съезд гостей к 11 ч. ночи. !Джаз-банд! |
Местная восторженная молодежь, дачные дамы, эстетствующие делопроизводители — Шурочки-Мурочки, Раисы Зиновьевны, Василии Игнатовичи — широким душистым и шелестящим потоком вливались в растворенные настежь, сияющие медью двери кино Арса.
Пара загнанных швейцаров еле успевала выдавать гардеробные номерки. Трещали створки маленькой кассы...
Белые платьица, лаковые туфли, контрабандные джемперы, запах пудры, пота и бриолина...
В буфете гремели стаканы и саксофоны, угорелые официанты, точно угри, извивались между столиками, в наполненном зале певица в красном, как месть, и открытом, как входные двери, платье с ужасом и болью выводила на шестиэтажном ля «Корабли», — а в двери все лилась и ломилась новая публика.
Чувствовал себя Васька преотвратительно. Пыль, духота, чужая публика, Но упорный в своем решении, он героически выдерживал искус, ища глазами кого-то в толпе...
Томные звуки «Валенсии» донеслись из зала. В дверях образовалась пробка. Крик. Визг...
Серпантин цветистым дождем смешивался с пылью. По скользкому паркету задвигались, заколыхали бедрами фокстротирующие, измученные пары.
Лизочка повернула раскрасневшееся лицо. Прическа модная чуть растрепалась, туфельки цвета коровьего вымени покрылись толстым слоем пыли, на шее и плечах мелькало конфетти.
— Муська! Муська! Вот чудесно!
А Муська уже улетела. Уложив голову на плечо пыхтящего кавалера, она сгибалась в «левом повороте», грациозно покачивала боками в «дорожке» и дышала в потную шею партнера — вся оголенная, в гаэе и томлении.
— Фу, Муська... — пробормотала Лизочка: — оставила меня одну... в толпе.
— Разрешите?
В приглашающем поклоне блеснуло отсветами люстр зеркало парикмахерского совершенства. Васькин белоснежный, похожий на пух, но твердый, как слоновая кость, воротничок соперничал с прической в выдержанности стиля.
В пухлых губках Лизочки — ласковая и ободряющая улыбка. Не стесняйтесь, молодой человек, я очень довольна... Рука легла на услужливое плечо, туфелька чуть поднялась на носок — и сразу утонула Лизочка в томящем, вздрагивающем темпе. Ну, и бог с тобой, Муська...
Жарко...
Встретились в буфете:
— Муська, нехорошая!
— Что такое?
— Сама убежала танцевать, а меня одну оставила. Подру-уга!
— Но, ведь ты же танцевала, я видела!
— Ф-ф-ф! Ну, конечно! А что же!... Ты знаешь, он очень хорошо танцует... Только руки немножко грубые...
Из зала донеслись звуки музыки.
— Таити-тратт!...
— Таити-тротт!...
— Муська!.. Опять... Фу, негодная...
— Разрешите?
Отсвет люстр. Волосок к волоску. Опять он.