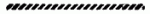Седой, тяжело контуженный человек подошел вплотную к юноше и сказал:
— Напрасно вы уезжаете, Ганс...
Юноша пожал плечами. Левая бровь юноши слегка обожжена взрывом, потому кажется, что он насмешливо щурится.
— Напрасно вы уезжаете, — повторил старик.
— Это мой долг, — сказал юноша. — Я должен вернуться на родину.
— Ваш долг быть здесь, рядом со мной, в моей лаборатории. Вы принадлежите науке.
— Я никому не принадлежу. Но у меня есть долг. Если хотите я в долгу у человечества.
— Но знания дал вам я. Слушайте, Ганс.
Старик болезненно морщился и нехотя подбирал слова.
— Вы знаете, что я не с вами. У меня есть свои счеты с революцией. Правда, я нейтрален, я работаю. Я даю государству ровно столько, сколько дает средний, недалекий, ученый. А вы знаете, или вернее вы догадываетесь, что я могу дать республике?
— Да, — сказал юноша, — я знаю.
— Когда вас прислали ко мне, я дурно думал о вас. Я думал, что вы приставлены ко мне, чтобы выведать тайну. Но вы внимательный и замечательно способный ученик. Я, Андрей Осташко, говорю вам: вы помогли мне во многом. Вы в долгу у вашей партии, а я в долгу у вас.
— Я начинаю понимать.
— Все предварительные работы сделали вы. Но вы не знаете выводов. Напрасно вы уезжаете.
— Я понимаю, — сказал Ганс. — Что же делать. Я еду на родину. Это мой долг. Вы сами сделаете выводы. В сущности это ваше идея. Я был простым исполнителем.
— Но без вас, без вашего упорства и способностей я не довел бы дело до конца.
— До свидания. Впрочем... на всякий случай... прощайте, — сказал Ганс.
— Добрый путь. Я у вас в долгу.
— Прощайте, учитель.
— Регистрируйте... 78922 — механический счетчик для пивных кружек.
— 78923 — эластичный бинт для бюста, 78924 — механические ножницы для проволоки, 78925 — усилитель беспроволочного телефона для аэропланов...
— Кажется, отказано...
— Нет. Старый идиот уговорил. Патент выдан.
— Тсс... Он слышит!..
— А хоть бы и слышал! Если бы вы знали, как надоел этот идиот! Дальше...
Идиот, действительно, слышал. Он подходил к канцелярским столам, дергаясь, мучительно кривя губы, стараясь выдавить из цепенеющих губ слова. Правое плечо, локоть и правая сторона лица не повиновались — тяжелая контузия.
— Инженер Осташко?
Рот старика расползся и перекосился влево.
— Дда... Я...
— Усилитель беспроволочного телефона для аэроплана. Усовершенствование прибора Кребса. Патент № 78925. Распишитесь.
Контуженный взял правой рукой перо, с трудом переложил в левую и написал в книге: Осташко. Взял из рук регистратора патент и пошел, шаря по полу правой, несгибающейся ногой, не то улыбаясь, не то дергаясь в обычных судорогах. Регистратор посмотрел на сгорбленную спину, промакнул подпись, для порядка прочел вслух «патент № 78925 — усилитель беспроволочного телефона... » захлопнул книгу.
Совершенные пустяки ...
В бывшем лейб-гвардейском манеже было удивительно тихо. Восемь тысяч человек умели молчать. На крыше автомобиля, въехавшего в манеж через боковые ворота, стоял человек в непромокаемом пальто и говорил, разделяя слово от слова так, чтобы слышали восемь тысяч делегатов и двадцать тысяч у тридцати дверей манежа.
— Трехцветное правительство требует разоружения. Трехцветные министры дали вам двухдневный срок для того, чтобы вы взяли вашими черными от копоти руками нас и выдали им, чтобы вы признали выгнанных вами капиталистов и министров, чтобы вы разорвали наш братский договор с союзом рабочих республик. Вы это сделаете?
Восемь тысяч человек в манеже и двадцать тысяч у дверей сказали:
— Нет...
От этого как бы заколебались стены манежа и дома на площади.
— Вы хотите войны? Войны не на жизнь, а на смерть, голода, разрушенмя, болезней? Подумайте. Вы можете купить мир. Вернется прошлое. Прошлая жизнь. Жизнь. Вы будете жить! Или вы хотите войны и смерти?
Двадцать восемь тысяч человек ответили:
— Да.
Опять заколебались стены. Человек на крыше автомобиля задумался.
— Хорошо. Я передам вашу волю. Да здравствует рабочая республика.
— Да здрав-ству-ет...
От этих четырех слогов как бы вихрем вынесло машину с красным флажком на площадь и среди черной раздвигающейся толпы, в водовороте криков, восклицаний и приветствий она вылетела на ровную аллею домов главной улицы. Человек в непромокаемом пальто смотрел по сторонам на свежую зелень бульваров, на разорванные в клочья золотые облака над радиотелеграфными башнями, на стрекочущие в небе аэропланы. Потом он повернулся к седому бритому человеку в зеленоватой форме:
— Что будет через неделю?
Тот не слышал этого вопроса или не хотел слышать. Он видел только стрекочущие черточки машин высоко над городом.
На рассвете женщины клеили на влажные от рассветной росы стены многоэтатных домов четырехугольные листки бумаги. Первыми их прочитали ночные смены рабочих, те, кто выходили из обнесенных кирпичной оградой корпусов.
От командующего войсками рабочей республики.
Все граждане от восемнадцати до сорока восьми лет призываются в армию. Мобилизационные пункты...
То, что было напечатано ниже, трудно разобрать. Сотни голов тесно прижались к стене. Виден был только верх объявлений.
Водокачка. Брошенная железнодорожная водокачка на холмах в предместье. Ее полуразрушило oгнeм бронепоезда прошлой осенью, когда из замкового парка выбивали белую гвардию. Дачи тоже разрушило. Но флигель виллы, которая принадлежала Осташко, сохранился. Теперь там жили двое. Контуженный человек — инженер Осташко и Лиза.
Лиза — это его дочь. Ему пятьдесят семь лет. Он изуродован контузией в прошлую осень. Говорят, — он помешанный. Но он работает. У него лаборатория. У него ученики.
Теперь утро. Он стоит в комнате дочери и смотрит на солнечный луч в золотых волосах на подушке. Курит и смотрит, пока спящая не открывает удивленные глаза, два раза приподнимает и опускает ресницы.
— Ты опять не спал?
Губы дергаются. Инженер Осташко шевелится.
— Последнюю ночь. Я собрал... собрал все части приборов...
Лиза молчит. Подымает над головой мягкие, чуть смуглые руки.
— О войне... Ты, как Архимед, будешь сидеть над мирными, тихими машинами, а вокруг будет смерть и пламя.
— Мирными машинами?.. — Осташко смеялся, захлебываясь, будто плакал.
— Это очень хорошо, когда можешь работать. Я бы хотела много работать и не думать...
— О чем, например?
Девушка сидела на постели. Солнце сквозь батист светилось на теплом и нежном теле.
— Я тебя не понимаю, отец.
Он обхватил голову руками, как делал всегда, когда хотел говорить спокойно, не прерывая речи мучительными судорогами лица.
— Я хочу бросить на город смерть и пламя. На город, на страну и на ту страну, которая с ними в союзе. Союз республик, союз рабочих республик. Вы думаете, что я, инженер Осташко, простил вам свое изуродованное тело, свой разоренный кров? Я помогу вашим врагам, когда они придут. Они пpидут по воздуху, и я помоrу им раздавить вас, испепелить, уничтожить...
Судороги осилили его. Он отнял руки от лица и бессильно присел в кресло.
— Что ты говоришь, отец?
Судорожно сведенные плечи вздрагивали.
— Что ты говоришь, отец?... Ты бредишь?...
Инженер Осташко встал. Рука его путалась в ее золотистых волосах, лицо успокоилось. С нежностью, удивительной в этом истерзанном теле:
— Это... конечно, бред.
В замковом парке, где год назад гранатами разрушило голландский павильон, — двое. Когда луна пропадает в мохнатых белых облаках — целуются. Шепчутся. Но это не похоже на любовные речи.
— Вам поможет союз?
— Да. Сильные машины перелетят через нейтральную зону.
— Тысячу пятьсот километров без спуска? Он сказал, что союз может вам помочь, если эскадрильи получат право спуска в нейтральной стране.
— Они возьмут силой это право.
— Но вы примете первый удар.
— Мы выдержим.
— Враги бросят на страну тысячу лучших машин. Что вы можете сделать?
— Нас меньше — это правда...
— Вы погибнете?...
— Ты плачешь...
Он поцеловал девушку. Луна не успела спрятаться в тучи. На кожаной фуражке блестело серебряное вышитое крыло. Смотрели вниз за реку, где светилось дрожащее электрическое зарево.
— Аэродром. Наши летают днем и ночью. Молодые лихорадочно учатся. Может быть, завтра...
Они пошли по высокому пустынному берегу. На низком берегу набережной светился пунктир газовых фонарей. Лиза долго молчала. Пока он не наклонился над прядями волос на лбу. Крепкая, упрямая морщинка шла от переносицы вверх, над бровью...
— Надо подумать.
Незадолго до событий, которые теперь захватили город и всю страну, к начальнику розыскного отдела пришел маленький, юркий человечек, назвал себя Николаем Xристо. Ему принадлежал небольшой гараж «Минерва» в южном предместье.
— Я не отниму у вас много времени, — сказал Николай Христо, — хотя история, которая произошла со мной сегодня, стоит хорошей и длинной беседы. За бутылкой ароматного греческого коньяка мы бы могли...
— Попробуйте так... без коньяку... — остановил Христо начальник, настойчиво придвигая стул.
— Хорошо, — сказал Христо, — хотя, в сущности, следовало бы не придавать официального характера такому пустяку... В сущности говоря... Ну, ладно. Я буду говорить только о фактах. Должен сказать, что я кое-что смыслю и в вашем деле. Я читал Конан-Дойля и записки Шарля Люсьет. Я вижу многое, чего не видят другие. Но это, впрочем, не важно. Факты. Итак... Итак, в прошлое воскресенье я поместил в «Вечернем Молоте» объявление... Оно у меня с собой.
И он положил на стол начальнику розыска вырезку из газеты:
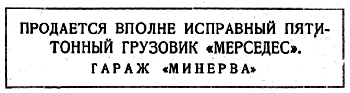
— На следующий день ко мне пришло два или три человека. Мы почти сошлись с молочной фермой «Здоровье», но в час дня мне позвонил человек, назвавший себя Кукс. Не слишком. Не важное имечко, не правда ли? Словом, Евгений Кукс. «Грузовик на ходу?» — «Разумеется» — «В таком случае в четверть пятого я буду ждать грузовик на старой замковой дороге у южных ворот». Следовало его пригласить в гараж, не правда ли?... Но он даже не поинтересовался суммой и вообще говорил очень убедительно. Словом, чорт знает почему, я сказал Яну — эстонцу шофферу, и он в четверть пятого отправляется на старую замковую дорогу. У южных ворот он остановил машину и в тридцати шагах видит субъекта, который возится с длинным проводом. Субъект делает ему знак. Ян вылезает из машины и идет к нему. Он делает пятнадцать, двадцать шагов по направлению к этому человеку, и вдруг... Молния, гром, удар, и Ян валится на землю. Взрыв, и в одну секунду от пятитонной исправной машины на ходу, от грузовика «Мерседес» — яичница, и хорошо, что не с ветчиной. Ян раскрывает рот, глядит на обломки машины, затем поворачивается к таинственному субъекту и опять раскрывает рот. Субъект провалился сквозь землю. Точно его и не было. Честное слово, не будь это Ян, а другой парень, я бы не поверил ни одному слову. Но Ян — это гранит, кремень, железо... Что вы скажете, начальник?...
— Пока ничего...
— И вы правы. Слушайте дальше. В шесть часов вечера я возвращаюсь из парка. В четверть седьмого звонок. Знакомый голос. Опять Евгений Кукс. Совершенно точно передаю его слова. «Завтра вы получите — четыре тысячи. Ваша старая рухлядь стоила не более трех, и советую вам держать язык за зубами». Вот и все. На месте Николая Христо, другой взял бы четыре тысячи и плюнул бы на это дело. Но я вижу многое, чего не видят другие. Я читал Конан-Дойля. Я кое-что смыслю в вашем деле... И вот...
— Хорошо, — сказал начальник. — Сейчас девять часов. Позвоните мне завтра в восемь утра и приезжайте. сюда. Это все. До свидания.
Маленький юркий человек раскрыл рот. Но начальник розыскного отдела взялся за газету и исчез за газетным листом. Николай Христо закрыл рот, пожал плечами и вышел.
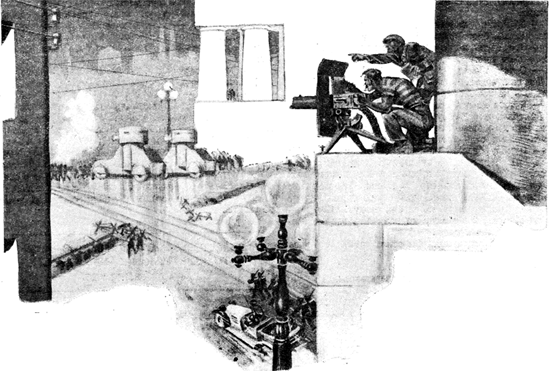
Ночь была душная и тревожная. Ветер из-за реки принес сухую, тяжелую, скорее похожую на песок, пыль. Толпы стояли перед световыми экранами газет. Жемчужно серебряным отливом сияли световые экраны и густой черной тенью ложились на них слова: «Пока без перемен».
В восемь утра начальник розыскного отдела сказал секретарю:
— Приготовьте мотоцикл и позовите Николая Христо.
— Мотоцикл — внизу, — сказал секретарь, — а Николай Христо...
— Что?..
— Несчастный случай. Впрочем, скорее смешной, чем несчастный. У него взорвалась в руках зажигалка. Слегка опалено лицо и руки. Но с ним нервное потрясение.
Начальник розыскного отдела молчал несколько мгновений. Затем он спустился вниз и уехал на мотоцикле по направлению к замковому парку. Он оставил мотоцикл у южных ворот и медленно пошел вдоль ограды парка. Трудно сказать, о чем думал начальник розыска. Но, может быть, он думал о том, что происходило здесь у этой ограды год назад. Пули белой гвардии и пули красных оставили глубокие следы в мягком известняке замковой ограды. А может быть, он думал cовсем о друrом. Во всяком случае он довольно внимательно посмотрел на красный верх водокачки на холме над оградой парка. Оглушительный взрыв заставил его вздрогнуть и взглянуть вниз.
На дороге лежал опрокинутый взрывом его мотоцикл. Черное облачко дыма медленно расплывалось в воздухе.
Трудно сказать, что предпринял бы начальник розыскного oтдела. В этот же день события развернулись с такой быстротой, что заставили всех забыть о странных происшествиях в замковом парке, о взрыве грузовика Николая Христо и взрыве мотоцикла начальника розыскного отдела.
В темной разрушенной водокачке-лаборатории внизу на походной кровати спал Осташко. Вверх вела одна узкая дверь, и кровать стояла так, что загораживала вход наверх. Вокруг кровати деревянные ящики, стружки. Отсюда четыре монтера вынимали сложные блестящие никкелированные приборы, части машин, которые сделали по чертежам Осташко в городе и за границей. Но со вчерашнего дня он отпустил монтеров и оставался один на холме, в водокачке.
Он услышал шаги и минуту настороженно сидел на постели:
— Кто?.. Ты, Лиза?.
Осташко угадывал шаги.
Девушка вошла и в темноте пошла на голос...
— Пп... почему так рано?
— Я хочу с тобой говорить.
Удивился. О чем может говорить ребенок восемнадцати лет?
— Будет война?..
— Будет, — старик торопился ответить.
— Ты на стороне тех?..
Он задрожал. Милая девушка-ребенок. Какой смешной вопрос. У него отняли все. Его заставили служить. Над ним смеялись.
— Ты сказал, что поможешь тем раздавить наш город, страну и союз.
— Я сказал...
— Ты это можешь?
Хитро захихикал...
— Я могу.
— Ты можешь?.. Отец, но ты можешь и помочь... Если захочешь.
Он задрожал. Пальцы царапали одеяло... Он их спасет. Недурно. Он прятал от них свою идею. Патент 78925... Совершенно пустяки. «Ничтожное усовершенствование Кребса». Как он великолепно спрятал от них секрет. Теперь он отдаст его даром трехцветным. Даром! Пусть они уничтожат союз рабочих республик. Его руками они раздавят союз.
Он прижал ее голову к маленькому узкому окошку. Внизу — стальная полоса реки. За рекой — город. Ненасытная месть.
Ей стало страшно. Из плесени и сырости, из каменного свода на воздух, в зелень. Пробежала по шуршащему гравию во флигель и упала на подушки. Несмятое, прохладное полотно, мягкие подушки. Слезы, усталость и сон. Сон до вечера.
Вечером проснулась. Отец стоял у окна и не отрываясь смотрел в цейс.
— Что там?..
Вскочила, взяла из дрожащих рук бинокль.
— Что там?..
В круглых стеклах близко мелькнули огоньки линии фонарей, электрическое зарево над аэропланом. И над ратушей огромный световой плакат:
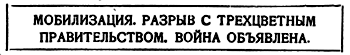
Осташко засмеялся, захлебываясь и содрогаясь.
Толстый канат электрических проводов, как змея, полз в слуховое окно башни. Там, во втором этаже, пока спали вычищенные как зеркало, моторы, точные приборы в зеркальных стеклянных ящиках, паутина медных цветных проводов, и все это, переплетаясь, соединяясь спиралями, уходило вверх на крышу башни в тонкую мачту, которая когда-то была флагом. Осташко неохотно пустил дочь. Привел ее за руку к окну мимо проволок и спиралей и остановился мигающими глазами на белых чулках и туфельках возле металлической дощечки над скрещенными проводами «смертельно — токи высокого напряжения».
Но Лиза знала, что он видит ее лицо и следит за ним.
— Что ты делаешь?
— Я жду.
Левая рука Осташко гладила черную каучуковую ручку прибора. Наклонившись над рукояткой, теперь он видел только деления внутри круга и рубильник на мраморной доске.
— Правда ли, что ты можешь остановить врагов?
— Ты... хочешь сказать... друзей.
— Ты можешь спасти город? Ты можешь остановить врагов?
— Я могу. На земле, на воде и в воздухе. Я могу.
— И ты этого не сделаешь?
Оставил рукоятку, левой рукой схватил ее за руку и осторожно и настойчиво повел ее к двери. Но у самых дверей с нежностью провел по ее волосам.
— Иди... Дети не должны... Не должны... Иди.
Щелкнул замок внутри. Oнa бросилась к глухой узкой двери и, царапая себе руки, тянула к себе.
Но он не слышал. Он стоял в узком окне желтый в своей вытертой замшевой куртке и смотрел на город зa рекой. Правая сведенная рука занесена кверху, рука со скрюченными пальцами, как вопросительный знак, как напоенный ядом крючок хвоста скорпиона.
Белокурый юноша в авиационном шлеме сел на велосипед у незаметного дома на «улице второго сентября» и поехал по асфальтовому тротуару мимо старух и стариков, шептавшихся у подъездов. Он проехал мимо вырытого зигзагом окопа у оперного театра, мимо броневой башни, поставленной в начале улицы Бабефа. Рабочий патруль остановил его у ратуши, и там он пошел пешком, поддерживая велосипед, пробираясь мимо клубков колючей проволоки. За цветочными клумбами, прятавшими пулеметное гнездо, его снова остановили, но пропустили, внимательно прочитав пропуск — красную книжечку с золотым крылом на обложке. Перебраться через улицу не легко. Рабочая дивизия вытянулась колонной от памятника Союзу почти до вокзала. Они проходили мимо балкона ратуши, перекликаясь с высоким седым человеком на балконе. Женщины стояли на тротуаре или шли с рядами, провожая до железнодорожных путей; где стояли пустые составы для дивизии. Но юноша пересек улицу и поехал вниз под гору, тормозя там, где вырастал горбатый гребень баррикады за проволокой. Затем он выбрался на шоссе, гладкое, укатанное, с тополями вдоль трамвайного пути. Его обгоняли трамваи, обвешанные вооруженными людьми, грузовые автомобили с пулеметами, направленные в разные стороны. И так он ехал, пока слева внизу не раскрылось зеленое поле и желтые кубики ангаров по краю. По полю, как пешки на шахматной доске, длинным рядом стояли выстроенные аэропланы. Юноша съехал вниз по укатанному спуску и спрыгнул с велосипеда. Четыре руки протянулись к нему. Он показал книжечку и прошел в ворота.
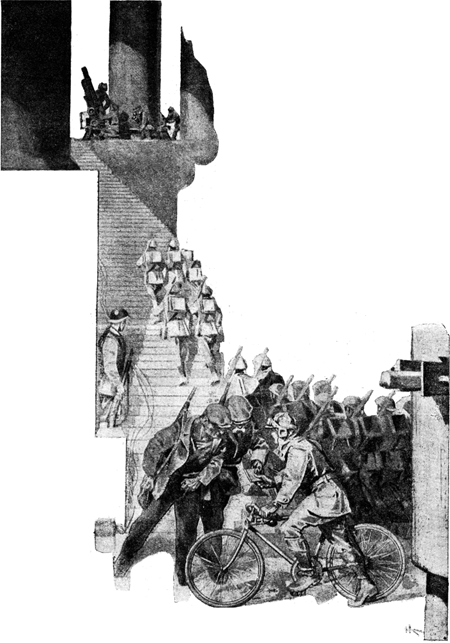
Начальник двадцать четвертого лежал на траве и рассеянно посмотрел на юношу, наклонившегося над ним.
— Ты не узнаешь?
— Вы?.. Ты!... — протянул руку.
Лиза села на траву рядом с ним.
— Без перемен?
— Да. Если не считать донесений с границы. Начались стычки.
— А Союз Республик?
— Ведет переговоры с нейтральными. Впрочем, надежды нет.
— До нашей границы сорок минут, — двести километров. У трехцветных тысяча — против двухсот наших. Все ясно. Союз запоздает.
— А если бы подоспел союз...
— О, тогда... Тогда силы почти равны, но надежды нет..
— Вы ждете?.. — Оба посмотрели за реку.
— Да. Каждую минуту.
Двадцать четвертый читает узкую бумажную ленточку:
ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА.
«Районе предгория тридцать тире тридцать пять эскадрилий перелетели границу точка, наши погранпосты разрушены».
Лаборатория инженера Осташко. Водокачка на высоком берегу реки. У радиоприемника согнулся Андрей Осташко. Он поворачивает правой рукой рукоятку и ловит обрывки слов. Обрывки приказов, воззваний и сводок. И в каждой фразе слово «война».
Первые донесения. Первые сводки трехцветных:
Обстрел красных пограничных постов.
Успехи трехцветных.
Вторжение в рабочую республику.
Старик усмехается. Он смеется, он потирает руки. Это расплата. Бледные, точно сведенные судорогой пальцы поворачивают рукоятку приемника. И вдруг ясный, хриплый голос из рупора, слова на чужом языке:
— Алло! Слушайте девятый отдел штаба трехцветных. Мы захватили агента красных... Слушайте...
Старик с досадой откидывается в кресло. Не то. Еще сводок. Еще новостей с фронта. Но хриплый, густой голос из pyпорa наполняет лабораторию.
— ... агента красных. Он работал на военном авиазаводе.. Он разлагал наши войска. Слушайте приметы. Рост высокий. Волосы русые. Серые глаза. Левая бровь как бы обожжена взрывом. Слушайте...
Теперь старик слушает не пропуская ни слова.
— ... постановление военно-полевого суда. Неизвестного, назвавшего се6я Гансом Роген, предатъ смертной казни. Не в пример обыкновенным преступникам Ганс Роген будет убит, умрет медленной смертью. Череэ тело осужденного будут пропущены постепенно усиливающиеся токи высокого напряжения. Алло! Слушайте, даем центральную тюрьму, даем зал, где приведут приговор в исполнение...
Шум и хрипение и другой голос в pyпope:
— Алло! Центральная тюрьма. Сейчас вы услышите приговор.
— Ганс! — восклицает старик — Ганс Роген!..

Он сжимает пальцами уши и несколько минут сидит, неподвижный и страшный, как гном. Но стон, слабый, длительный стон летит из рупора, и старик отбегает в сторону и в испуге глядит в металлический зев.
— Ганс, — шепчет старик, — Ганс!.. Подлецы! Они убивают гения.
Стон длительнее и протяжнее, но его покрывает низкий и глухой голос палача:
— Включаем ток более высокого напряжения. — Мгновение тишины, короткий вопль и явственный прерывающийся голос:
— У-чи-тель, — выговаривает рупор. — По-мо-гите.
Может быть, это галлюцинация, бредовое видение встает перед глазами старика. Но в черном зеве рупора он видит белый ослепительно сияющий зал и палачей в халатах и толстые, похожие на спутавшихся в клубок змей, провода, соединенные со шлемом. Он видит голову под шлемом, лоб юноши, покрытый каплями предсмертного пота. Он слышит, ясно слышит eгo слова:
— Учитель... Помните долг... Учитель, — вы слышите меня...
Звонкий надорванный стон в рупор и тишина.
ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ ТРИ МИНУТЫ.
«Происходит непостижимое явление точка вторая группа трехцветных эскадрилий от неизвестных причин терпит крушение моторы перестают работать бензин взрывается аппараты падают охваченные пламенем районе устья упало до шестидесяти аппаратов точка».
Двадцать четвертый — начальнику эскадрильи:
— Не посылайте наших аппаратов в воздух. Проверьте телефоном сообщение.
— Двадцать четвертый! Телефон подтверждает. Четыре наблюдательных пункта потверждают гибель второй группы трехцветных. Первая группа миновала Узловую. Вокзал разрушен.
— Первая группа над Узловой — вы слышите?
— Ни один не перелетит реку. Ясно.
Потом вспомнили многие — утро, высокий берег реки и несчетные рокочущие черточки на небе. Они летели ровным строем, как на прогулку. И тогда, на глазах сотен тысяч людей напряженно глядевших в синеву, на высоте двух тысяч метров, как ряд серных спичек, треща, вспыхнула первая линия самолетов. Вспышка и черный дым и сначала медленное, потом ускоряющееся падение дымящегося факела. Эскадрильи смешались. Некоторые делали петли, друrие поворачивали с риском столкнуться с соседними самолетами, и все-таки загорались группами, стаями, как бы под чудовищным фокусом увеличительного стекла, поставленного между ними и солнцем. Десятками падали на высокий берег реки и догорали, треща в облаках копоти. От взрывающихся моторов и бомб грохотала чудовищная канонада, но ни одна пушка, ни одно ружье еще не выстрелило в городе. Как трубы астрономов, недоуменно и безобидно ворочались зенитные орудия на крыше ратуши, а между тем в небо уже удалялись отдельные разрозненные точки истребителей и метались последние тяжелые большие бомбовозы, уцелевшие от разгрома и слишком тяжелые, чтобы скрыться.
— Вы думаете, что это случайность?
— Возможно. Он включил свой прибор в то время, когда последние самолеты уходили на запад.
— И один из них взорвал его самого?..
— Да. А может быть это не случайность.
— Во всяком случае, пока мы не знаем.. Пока мы ничего не знаем...
— Стоит подумать и докопаться... Ах, старая каналья! Ну что бы ему стоило еще пожить? Какое открытие.
— Тсс... тише.
И тот, кто сказал «тише», указал на стоящих у обугленных развалин. Высокий поддерживал девушку. Она прятала голову у него на груди.
Ветер развевал дым. Из дыма вставал низкий берег реки и город, звенящий тысячами оркестров, десятками тысяч голосов, песен и восклицаний на площади против ратуши, где во всю стену свисал огромный плакат:
Гибель воздушного флота трехцветных!
Мирные предложения трехцветных Совету!
Дa здравствует союз рабочих республик!