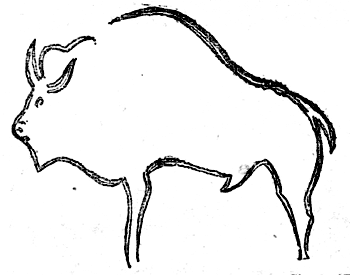
Почти полвека прошло с тех пор, как в Альтамирской пещере, на севере Испании, было сделано замечательное открытие. И честь этого открытия принадлежит не ученому археологу, а маленькой девочке. В 1879 г. испанский археолог Саутуоло тщательно обследовал пол вышеназванной пещеры, в надежде найти здесь кремневые орудия каменного века. Но дочь археолога, сопровождавшая отца в его поисках, настояла на том, чтобы лампа была поднята вверх. И вот неожиданно на потолке пещеры, нависшем так низко, что до него можно было дотронуться рукой, выступили контуры каких то чудовищ. Это были изображения зубров, целого стада этих могучих животных, которые при трепещущем свете факелов представились взору исследователей в самых живописных и полных движения позах. Вот силуэт чем то разгневанного, поднявшего, видимо, страшный рев животного. Спина его выгнута горбом, ноги подогнуты, — вы явственно ощущаете, с какой силой он выпускает из себя мощную струю воздуха. Вот еще разъяренный самец, а за ним выступают все новые и новые силуэты. У всех этих животных с особенной силой переданы глаза, которым всегда придается бешеное и свирепое выражение, столь характерное для разъяренного быка.
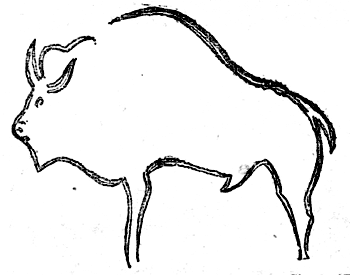
Рис. 1. изображение буйвола из пещеры Ла-Крез (Дордонь). Силуэт зверя намечен смелыми штрихами, глубоко вырезанными в скале. Однако, художник не сумел еще вырезать во всех подробностях копыта, и потому ноги оставлены неоконченными. Это как бы первоначальный набросок.
О высоком творческом даре первобытного художника говорит то искусство, с каким он использовал ряд естественных овальных выпуклостей на потолке пещеры, Он в них угадал части тела тех животных, которые стремился изобразить, и только несколько разработал линии природного рельефа. В тех случаях, когда ноги зубра изображались подогнутыми в различных положениях под туловище, при чем они весьма тщательно вырисовывались, только хвост и рога приходилось дополнительно вырезать на окружающей ровной поверхности скалы.
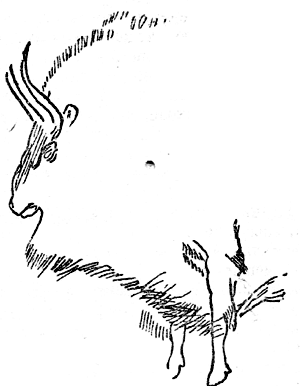
После этого открытия были обнаружены многочисленные образцы первобытной резьбы-живописи в пещерах департамента Дордони и северного (французского) склона Пиренеев. Все эти остатки седой древности свидетельствовали о высоких художественных дарованиях древней человеческой расы (кроманьонской), которая некогда в этих местах обитала.
Многие ученые целиком посвятили свои силы искусству древнего каменного века. Так, Эдуард Пьетт, судья в Краонне, в течение 35 лет все свои досуги посвящал этому увлекательному предмету. Последние свои археологические раскопки он предпринял в 1897 г., в возрасте 70 лет, и лишь через 10 лет, будучи восьмидесятилетним старцем, опубликовал свое основное исследование "Искусство эпохи северного оленя". Пьетту удалось выяснить главнейшие стадии развития древне-каменного искусства. Он показал, что линейной резьбе и гравировке предшествовало простое моделирование изображаемых предметов, переходящее постепенно в скульптуру. Многокрасочная живопись появляется только в самом конце длительного развития.
Со времени Пьетта материал, требующий изучения, чрезвычайно расширился. В 1908 году было зарегистрировано восемь пещер с рисунками в департаменте Дородонь, шесть — в Пиренеях, вдоль французско-испанской границы, и семь — вдоль Кантабрийских Пиренеев, в северо-западной Испании. В настоящее время известно свыше 30 пещер с остатками стенописи. В иных из этих пещер встречаются сотни силуэтов, дающих нам полное представление о животном мире того времени. Здесь бок-о-бок красуются животные, которые нам представляются совершенно несовместимыми: мамонт и какие-то четвероногие, напоминающие дикого осла или дикую лошадь, носорог и северный олень, альпийский козел и благородный олень, лев и, тут же рядом, волк. Но не нужно забывать, что климат Европы в то время существенно отличался от нынешнего. Наш континент был связан непрерывной сушей с Африкой, откуда могли заходить хищники, водящиеся ныне только под тропиками. Они обосновывались по соседству с остатками тех животных, которые когда-то населяли эти места в период наступления ледников.
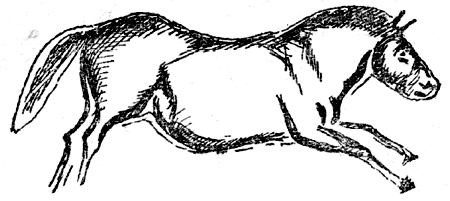
Рис. 3. Начало живописи. Изображение скачущей лошади, полное движения. Эта стенопись выполнена черной и белой красками. Интересно отметить, что здесь изображена особая порода лошади, не встречающаяся сейчас в Европе. Это так называемая кельтская или степная лошадь.
Проберемся в наиболее обширную из таких пещер — пещеру Нио. Вход в нее расположен на склоне известковой горы, на 90 м выше уровня протекающей у подножия горы речки. В горизонтальном направлении подземные ходы уводят в глубь на расстоянии целых 1260 м. На расстоянии 800 м от входа внезапно нам преграждает путь подземное озеро. Длинная галлерея вьется вдоль его берегов. Через нее мы попадаем в большой зал. Нависающие скалы здесь прекрасно отполированы песком и гравием, приносившимися послеледниковыми потоками. Точно сама природа позаботилась о первобытном художнике, заготовив для него огромные каменные полотнища. Несметное количество рисунков зубра и лошади выступает на широких слегка вогнутых поверхностях стен, имеющих цвет светло-желтой охры. Все эти изображения столь блестящи и свежи, словно сделаны только вчера. Нанесены они на гладкий камень при помощи смеси перекиси марганца и жира и напоминают грубые литографские изображения. Животные изображены великолепными смелыми контурами, без поперечной штриховки, но с нанесением значительных масс яркой краски, набросанной в различных местах.
Но далеко не всегда стенопись расположена в этих обширных подземных залах. Наоборот, излюбленное для нее место — самые отдаленные части подземных ходов, узкие гроты, куда едва может протиснуться человек и где на каждом шагу встречаются глубокие и опасные расщелины, грозящие гибелью. Характерна в этом отношении пещера Пасьега, открытая в 1912 г. знаменитым исследователем первобытной культуры — Обермайером.
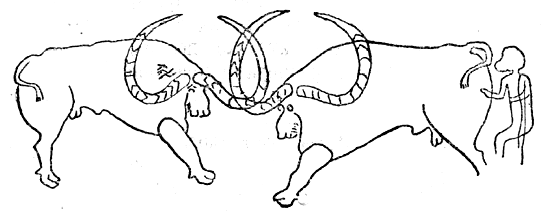
Рис. 4. Памятники искусства каменного века на скалах Северной Африки. Поединок двух диких буйволов. Этим моментом старается воспользоваться охотник, подкрадывающийся к увлеченным борьбой зверям.
Проникнуть в это первобытное подземелье не так легко. Сначала мы попадаем в небольшой грот, расположенный на высоте 150 м над рекой и служивший очевидно убежищем для пастухов. В полу имеется очень узкое отверстие, круто спускающееся вниз и переходящее в прорезающий известняк тоннель, достаточно широкий для того, чтобы сквозь него могло пройти туловище человека. Далее начинается целый лабиринт подземных ходов. Сначала мы проходим через "Галлерею животных", далее оставляем за собой "Галлерею надписей" и, наконец, после долгих поворотов, подъемов, спусков и обходов опасных мест, достигаем последнего расширения пещеры, которое Обермайер назвал "Тронным залом"; действительно по средине здесь возвышается естественное сидение из известняка с возвышениями по краям на подобие ручек, и сейчас еще можно видеть изменение в цвете камня, захватанного руками жрецов и художников. В этом зале почти нет рисунков и резных изображений, но зато тем больше их во внутренних таинственных гротах, куда едва проникает мерцающий свет светилен и где один неверный шаг может привести к гибели.
Только попав в такую пещеру, мы можем явственно ощутить корни древних религиозных верований, проникнуть в самую суть тех магических действий и заклинаний, к которым любил прибегать человек на заре своего развития.
Что заставляло человека с опасностью для жизни углубляться в эти таинственные подземелья и тратить бездну времени и усилий на это воспроизведение звериного царства? Техника этого искусства была ведь очень не легка: художник набрасывал сначала резьбой очертания животных, затем он окрашивал в черный цвет контуры головы и тела и, наконец, покрывал всю фигуру красной или какой либо иной краской. Всю эту сложную работу приходилось производить при крайне несовершенном искусственном освещении, ведь были у этих людей всего только примитивные лампы из камня со светильней, плавающей в расплавленном жире. Одна из таких ламп была найдена в гроте Ля Мут. Кирка рабочего, помогавшего при раскопках, разбила ее на четыре куска, из которых удалось вновь найти всего три. В небольшом углублении лампы имелось немного обугленного вещества. Эти остатки были подвергнуты химическому анализу, и в результате удалось установить, что в целях освещения употреблялся жир животных. Сохранились также и остатки красок и приспособления, служившие для их приготовления. Охра и окислы марганца растирались в тонкий порошок в каменной ступке; не обработанные краски хранились в украшенных футлярах, сделанных из костей нижних конечностей северного оленя. Тонко растертый порошок смешивался с животными жирами на палитре, состоявшей, по видимому, из лопатки северного оленя.

Рис. 5. Картина первобытного художника изображает слониху, защищающую своего детеныша от нападения леопарда. В Южной Европе и в прилегающих к ней частях Северной Африки в эпоху камня водились звери, которые сейчас встречаются только в жарких странах.
Рисунков этого типа так много, изготовление их было сопряжено с такими трудностями, что трудно объяснить их возникновение простой прихотью первобытного человека, желанием с его стороны поразвлечься и убить на что-нибудь свой досуг, который вовсе не мог быть продолжителен при тогдашних условиях человеческого существования.
Одно наблюдение, произведенное известным исследователем Африки — Лео Фробениусом в глуши тропических лесов Конго, бросает неожиданно яркий свет на смысл этой первобытной стенописи. Замечательно одно обстоятельство: на туловище изображенных животных мы встречаем сплошь и рядом черточки, изображающие, видимо, вонзившиеся стрелы. Тут же имеются пятна и штрихи, воспроизводящие очевидно раны, которые нанесены метательным оружием охотника. Эти черточки и пятна часто окрашены в красный цвет.
А вот что рассказывает Фробениус.
Как-то раз во время одной из наших экспедиций в девственном лесу Конго мне удалось повстречаться с представителями тех пигмеев, которые получили такую широкую известность в качестве своеобразного охотничьего племени, обитающего в самом сердце Африки. Три карлика и одна карлица сопровождали даже нашу экспедицию в течение недели. И вот случилось так, что у нас как-то под вечер обнаружился недостаток в продовольствии. А мы с дикарями к тому времени стали уже большими друзьями, почему я и обратился к ним с просьбой притащить в тот же вечер нам на ужин антилопу: для них, как для природных охотников, это не могло представать никаких затруднений. Но дикари посмотрели на меня с изумлением, и один из них разъяснил мне, что, конечно, они охотно выполнили бы мою просьбу, но что для поимки антилопы требуются известные подготовительные действия, а приступать к последним можно только завтра, на восходе солнца. Я попросил своих приятелей не замедлить с этим делом и выразил готовность ждать до завтра. Карлики в тот же вечер приступили к какому-то обследованию окрестностей, причем особенное их внимание привлекала вершина близлежащего холма.
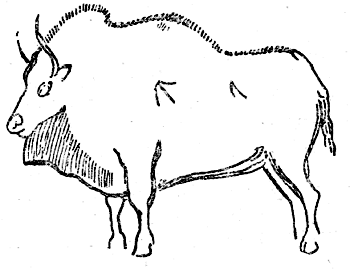
Я горел нетерпением узнать, в чем заключается сущность всех этих подготовительных операций, а потому на следующий день поднялся еще до зари и прополз в кустарник, окружавший возвышенную прогалину, которая еще с вечера была выбрана туземцами для их манипуляций. Ночной мрак еще не вполне рассеялся, когда мои приятели уже появились на месте действия, на этот раз ведя с собой и женщину. Трое мужчин присели на корточки, выпололи небольшой участок земли и утрамбовали его. Один из дикарей пригнулся к земле и пальцем стал что-то чертить. Его товарищи и женщина бормотали тем временем какие-то заклинания и призывы к божеству. Затем все замолкли в напряженном ожидании. Блеснули первые лучи солнца. Один из мужчин с натянутой тетивой подошел к расчищенному пространству. Прошло еще две-три минуты и солнце ударило прямо в рисунок, начерченный на земле. Во мгновение ока произошло следующее: женщина воздела руки по направлению к солнцу и громко что-то прокричала на неведомом мне наречии; мужчина спустил стрелу; женщина еще что-то прокричала; тотчас же мужчины, держа в руках свое оружие, рассыпались по зарослям. Карлица не двигалась с места еще в течение нескольких минут, а затем направилась к месту своей стоянки. Как только дикарка ушла, я вышел из кустов: на расчищенном кусочке поляны красовалось изображение антилопы, размерами примерно в 4 фута. Стрела, спущенная дикарем, торчала в горле животного, изображенного на песке.
Пользуясь отсутствием охотников, я задумал было притащить фотографический аппарат и заснять это изображение антилопы. Но в этом мне воспрепятствовала дикарка, неотступно следовавшая за мной по пятам. Уступая ее настоятельным просьбам, я отказался от своего намерения и ушел с пустыми руками. После полудня охотники вернулись, таща с собой прекрасную антилопу. Стрела, вонзившаяся в сонную артерию, была причиной ее смерти. Карлики передали нам свою добычу, а сами отделив от шерсти убитого животного несколько клочков и наполнив его кровью ореховую скорлупу, вновь отправились на тот холм, где справляли свое священнодействие.
Лишь на следующий день карлики вновь нас нагнали. Только вечером, за чашей пенящегося пальмового вина, я рискнул завести разговор обо всем виденном мною накануне, выбрав в качестве собеседника дикаря, с которым я короче всего сошелся. Это был самый старший из трех чернокожих. Без дальнейших околичностей он мне поведал, что там на холме им нужно было кровью окропить изображение антилопы, обтереть его шерстью, а затем вытащить стрелу и стереть рисунок с лица земли. Последнее могло быть сделано также только на восходе солнца. Формулу заклинаний так мне и не удалось у него выведать. Да и сам он не разбирался в их смысле, и мог сообщить мне лишь то, что "кровь" антилопы их довела бы до погибели, если бы они не стерли рисунка. Самым настоятельным образом он умолял меня не сообщать ничего о нашем разговоре женщине. Но, видимо, возможные последствия его болтливости не давали ему покоя, так как на другой день пигмеи как в воду канули, даже не попрощавшись с нами, очевидио, подчиняясь распоряжению своего старшины, того самого человека, с которым я беседовал накануне.
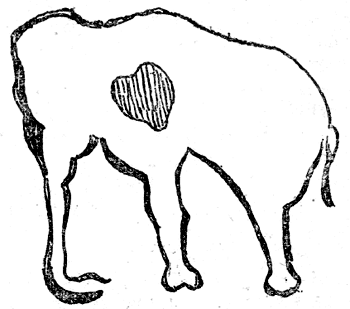
Этнография таким образом освещает смысл тех фактов, которые устанавливаются археологами. В глубине пещер производились, повидимому, над изображениями животных какие-то колдовские обряды и магические манипуляции. Возжаждав крови своей добычи, первобытные охотники стремились очистить себя от смертельного греха пролития крови, отвести от своих голов возможную месть крови. На рисунке учились наносить лесному зверю самый верный удар, поражающий его в наиболее уязвимое место.
Образ зверей, с которыми предстояло сразиться, во мраке пещер восстанавливался с наивозможной ясностью, самое умение воспроизвести этот образ считалось, должно быть, таинственным, божественным даром, достойным только жреца. И вот искусство становилось религиозным таинством. Всепоглощающая жажда добычи, неотступная мысль о дичи, которая должна быть поймана, придавали особую напряженность творческим силам первобытного художника. Неудивительно, что с такой силой и правдой он набрасывал контуры тех животных, от успеха борьбы с которыми зависело все его благополучие. Он не просто забавлялся, не то чтобы искал безотчетно выхода живущему в нем чувству прекрасного, но в буквальном смысле этого слова — священнодействовал. И это священнодействие целиком опиралось на охоту — основной промысел для человека, жившего в эпоху каменных орудий.
И. К.