
"Природа", №05-06, 1926 год. стр. 15-32.
Много лет мечтал я попасть в области пустыни, чтобы познакомиться с теми своеобразными химическими реакциями, которые свойственны целому пустынному поясу земного шара. После классических работ В. Обручева, И. Вальтера и З. Пассарге вопрос о геохимии пустыни был поставлен во всей его широте, но, тем не менее, мне казалось, что нет еще достаточно ясной и обоснованной картины, которая бы охватывала химизм пустынных районов, то с грандиозными корками халцедона и опала, как это наблюдается в Австралии или в Калахари, то с защитными образованиями карбонатов Калифорнии или Северной Америки, то, наконец, с гипсовыми цветами и корками Сахары и Средней Азии.
Мне удалось, вместе с геологом Д. И. Щербаковым, посетить пустынную область Закаспия осенью 1925 г. и, что особенно интересно, посетить ее после поездки на Белое море, за Полярный Круг, в область совершенно иных геохимических соотношений. В нижеследующих строках я попытаюсь бегло набросать некоторые из наших наблюдений и вновь поднять вопрос о геохимии пустыни, как об интереснейшей и вместе с тем еще не решенной геохимической проблеме. Много еще описательской и исследовательской работы предстоит в этом направлении, и надо пожелать, чтобы продолжались и углублялись те исследования над нашими Туркестанскими пустынями, которые начаты Средне-Азиатским Университетом во всей их широте и сложности.
Каракумы представляют собою огромную территорию песков, общею площадью в 300.000 кв. клм. Она тянется в виде полосы в среднем длиною в 800, шириною в 500 клм. от уступов Устюрта и течения Узбоя на западе — до линии Аму-Дарьи и предгорий Афганистана на востоке, от оазисов Хивы и Хорезма на севере — до линии Копетдага с персидскою границею на юге. В своей восточной части Каракумы пересечены Средне-Азиатскою железною дорогой, которая отсекает восточные пески, суженные оазисами Чарджуя, Мерва и Теджена. Здесь, в этой части пустыни, лежит знаменитая станция Репетек с ее гипсами, здесь известны около ст. Учаджи мощные "леса саксаула", здесь, вообще до сих пор, главным образом, работала научная мысль натуралиста (Палецкий, Дубянский, Билькевич, Вальтер); но центральные и западные части Каракумов оставались мало изученными 2). А между тем, именно с этою частью связан ряд промышленно-экономических проблем и через нее проходят исторически важные караванные пути из Персии в Хиву.

Наши маршруты в ноябре 1925 г. достигли центральной части пустыни, так называемой линии Унгуза, которая делит пустыню на северную горную половину — Заунгузское плато и южную — песчаную. Северная, лишь частично охваченная нашими маршрутами, представляет в сущности элювиальную россыпь коренных пород третичного возраста и состоит из обломочной степи, бедной водою и растительностью и лишь местами прерываемой огромными овальными впадинами выдувания в коренных породах.
Южная половина Каракумов — песчаная пустыня, но в противоположность некоторым участкам восточных Каракумов, почти лишенная подвижных песков и гряд. Именно эта часть песков привлекла наше внимание. В схеме всю область можно представить себе как неправильное море песчаных закрепленных бугристых песков: в южных частях мы имеем мелкобугристые пески с не очень расчлененным рельефом, с отдельными языками подвижных дюн, надвигающихся на культурные земли, образованные сносами с Копетдага; далее мы имеем огромную зону грядовых песков, вытянутых длинными неправильными грядами приблизительно по меридиану с отклонением на СЗС—ЮВЮ. Эти гряды достигают 10—20 м. высоты, иногда покрыты подвижными гребешками, а вдоль себя образуют понижения, частью песчанистые, частью с мелкими такырами (см. ниже). Наконец, в северной части около знаменитых серных бугров мы встречаемся с системою впадин выдувания; в то время, как караванные пути при грядовом рельефе очень удобно идут по линии гряд, здесь караванные тропы неизбежно ныряют в глубоких впадинах до 20 м. высоты, с очень крутыми склонами, и, каково бы ни было направление тропы, она все равно встречает все те же волны песка!
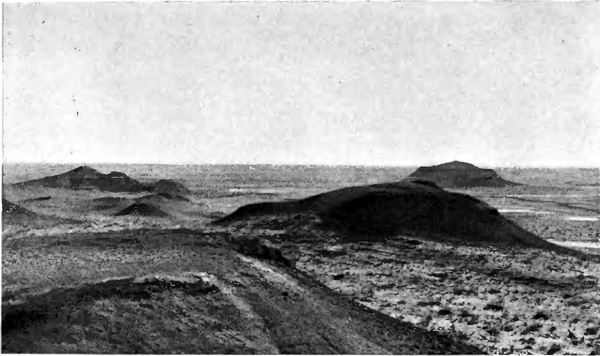
Но эта однообразная, на сотню километров пути, как будто, неизменная картина песчаного моря имеет и свои постепенные изменения и свои резкие контрасты, нарушающие ее однообразие.
К первым относится постепенное изменение цвета и структуры песков от юга к северу, по направлению к коренным выходам Заунгузского плато. Розовато-желтые тона юга сменяются более серыми цветами на севере. Мелкие частички глинистого характера постепенно исчезают, песок является в своем типичном виде однообразного аггрегата частичек равномерной величины.
Мы ехали до бугров — до первых коренных пород — 13 дней: на пути был только песок, и вся жизнь района определялась им и его свойствами; нам делалась понятной та роль, которая придается песку обитателями песчаной пустыни: раны, из которых сочится кровь, замазываются песком, своими капиллярными силами останавливающим кровотечение; при отсутствии воды руки и тело моются перетиранием песком; всякая необходимая дезинфекция делается песком: нагретый до 75° С. он делается стерильным 3).
Но гораздо грандиознее и еще интереснее в судьбах нашей Каракумской пустыни играют роль явления, резко нарушающие ее однообразие: это — с одной стороны ее такыры и шоры, а с другой — бугры центральных районов. И те и другие носят на себе столь поразительные черты влияния пустынного климата, что невольно привлекают к себе внимание и в однообразной картине сотен километров песчаного пути создают красочные и яркие контрасты.
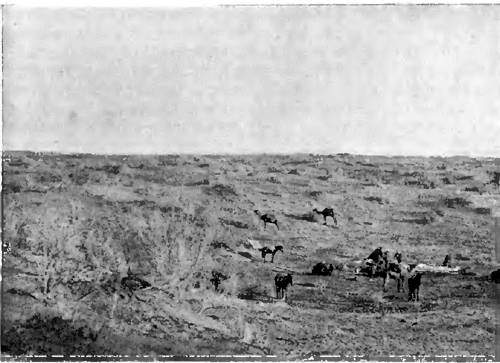
Такыры, особенно частые в южной половине доунгузской пустыни, представляют собою совершенно ровные площадки разных величин, от нескольких квадратных метров до 1—2 километров в диаметре. Поверхность такыра покрыта плотною, обычно красноватою почвою, гулко звенящею, как торцовая мостовая, под ногой неподкованной лошади, очень скользкою и почти непроходимою после дождя. Сильные дожди превращают такую водонепроницаемую поверхность в сплошное озеро, и местное население умело пользуется этою водою, отводя ее очень неглубокими каналами в особые водосборные участки песков. Под поверхностью блестящих такыров залегают серые, немного слюдистые пески и в них нередко на разных глубинах встречаются мощные гипсовые горизонты 4).
Образование такыров необычайно интересно и вместе с тем очень важно, так как вся жизнь пустыни связана с ними. Они образуются путем заполнения низин, прежде всего, сносом ветром наиболее легких частиц, затем уже водным сносом бурными весенними потоками, которые из прилегающих песков вымывают илистые частицы. После этих двух основных факторов начинает действовать третий — циркуляция вод подтакырных горизонтов; эти воды, несомненно, обесцвечивают пески, делая их пепельными, придавая черной слюде золотистый цвет кошачьего золота. Вероятно часть железа выносится при этом в верхний глинистый покров, обусловливая его типичный розовато-красный тон, вызывающий столь частое у местных жителей наименование "кизил-такыр". Нередко такыр снова заносится барханным песком, а на последнем вновь образуется такырная корочка и, таким образом, растут многоэтажные такыры с погребенными водонепроницаемыми такырными горизонтами.
Очень характерны процессы развевания старого такыра: верхняя корочка, как более устойчивая, нередко долго сохраняется в рельефе песков или в виде небольших останцов, или столовых вершинок; серый цвет песка, в противоположность желтому, быстро заставляет понять, что перед вами развеянный ветром такыр, а обломки гипса или целый горизонт репетекских кристаллов подтверждают эту картину.
Что очень характерно для больших Каракумских такыров — это как бы венцы, ореолы подвижных песков вокруг них: еще за несколько километров до такого такыра вы чувствуете к нему приближение, а высокие гряды подвижных барханов с их острыми гребешками, обрывистыми к юго-западу, вам прямо подсказывают, где будет такыр. Повидимому, это явление связано, однако, не с самою физико-химическою средою, а с деятельностью человека. Такыры — места скрещивания караванных путей, места колодцев, аулов, стад баранов, тысяч голов верблюдов. Вырубание саксаула для отопления, песчаной акации для крепления колодцев, поедание травы "селина“ стадами, наконец, просто разрыхление поверхностного слоя — все это уменьшает закрепленность песков и создает их столь опасную подвижность. А между тем, занесение такыра песком грозит полным изменением в условиях жизни и кочевок целых территорий.
Несколько иной характер носят шоры, соры или по-туркменски депизы. Это тоже огромные ровные пространства, обычно весьма значительных размеров — до 2—3 клм. в диаметре. Они поражают своею в общем ровною, но мелко-бугристою поверхностью и, подобно такырам, обрамлены высокими, крутыми склонами закрепленных песков. Их поверхность, однако, лишена твердой такырной пленки — это песок, сильно размягчающийся во время дождей, шероховатого микрорельефа — или очень темного серого, бурого тона, или белоснежный, в случае выделения солей.

Шоры несомненно рядом переходов связаны с солонцами, но, повидимому, и с такыром есть совершенно определенная генетическая связь. Наши наблюдения, как будто, показывают, что шор образуется нередко на месте раздува такыра и, таким образом, отвечает как-бы его более глубоким горизонтам. В нем мы нередко наблюдаем останцы репетекских гипсов, а обильные выцветы солей говорят нам о направлении растворов — из глубин к поверхности. Однако, другие исследователи думают как раз наоборот и считают, что заиление шора приводит к образованию такыра. Может быть в действительности мы имеем и то и другое.
В противоположность этим образованиям депрессий пустынного ландшафта, необычайно красочными рисуются нам знаменитые Каракумские серные бугры Кырк-джульба (сорок бугров). Уже отойдя 180—200 клм. к северу от культурной полосы, с более повышенных бугров песка начинают маячить целые группы одиноких, довольно резко очерченных возвышений; некоторые из них, как скалы, обрывистыми склонами высятся метров на 40—50 над морем волн песка. Издали они кажутся грандиозными горными пиками, ибо в море пустыни, при отсутствии резких элементов рельефа, все масштабы недоступны оценке глаза, и высоты бугров и сами расстояния до них и между ними совершенно не подчиняются определению, пока вы их не достигли.
Бугры эти представляют собою останцы большого раздутого ветрами плато коренных пород; песчаный характер этих первичных образований сарматского и более молодых возрастов в значительной степени способствовал образованию песчаной пустыни, а его более плотные и крепкие части уцелели до сих пор в виде знаменитых серных бугров. Большинство наиболее крупных бугров окаймлено красною полосою окисленной зоны, что делит их на три части: нижний остов из полосатых песков и песчаников, красный пояс и, наконец, верхушки из белоснежных рыхлых песков с серою. Именно эти верхушки высотою метров в 10—20 и шириною в основании метров в 100, не больше, и привлекают наше внимание не только по замечательным скоплениям прекраснейшей серы, но и по ряду еще совершенно у нас в России не отмеченных процессов пустынной геохимии.
Когда поднимаешься по склонам очень крутых, иногда обрывистых бугров, встречаешь в некоторых местах в огромных количествах рогульки и обломки кремня самых разнообразных оттенков — серых, яркожелтых, красных, как сердолик, фиолетовых и черных. Эти же обломки в огромном количестве покрывают некоторые впадины выдувания около бугров; на солнце эти кремни блестят и сверкают, как лакированные, и в руках вы легко можете в них подметить известный пустынный загар в самой классической его форме.
Поднимаясь выше по склонам вы скоро замечаете, откуда берутся эти рогульки: внутри слоев коренных песков цепочками и сплошными прослойками лежат скопления полуопалов и кремней; их образование, конечно, не связано с теперешним климатическим режимом; они образовались, очевидно, раньше, скопив в периоды диагенеза массы подвижного кремнезема, частью в виде кварца или халцедона, частью в виде полуопала. Эти подвижные и легко растворимые формы и испытали позднее под влиянием климатического режима и его факторов значительные перемещения, — миграции, как мы говорим в геохимии.
Лаковые корочки на вымытых дождем и выдутых ветром рогульках представляют лишь еще слабые формы миграции, но каково было наше удивление, когда, на буграх Чеммерли и Дарваза-кыр, в 250 клм. на север от Геок-Тепе, мы увидели целые кремневые зоны новообразований, которые как корою или панцырем со всех сторон перекрывали шапочку серного бугра. Не только отдельные участки рыхлых песков с серою оказываются плотно пропитанными такою подвижною кремнекислотою, целые корки до 1 см. мощности, спаянные вместе гипсом и другими сульфатами пустыни, рисовали перед нами картину, столь сходную с знаменитыми полуопалами и опалами Центральной Австралии и шоров пустыни Калахари. Несомненно, что сейчас означенный процесс еще продолжается 5), и на бугре Чеммерли мы нашли замечательные образования, в которых волокнистый гипс пустынной корки с поверхности замещался тонкими полуопаловыми и кремневым корочками.
Здесь на этих останцах в полуметровой массе, одевающей бугры, массе гипса, полуопала и сложных желтых сульфатов железа мы впервые почувствовали всю мощь пустынной геохимии, всю грандиозность процессов извлечения из глубин к земной поверхности наиболее подвижных растворимых систем6) и их закрепления в виде новых устойчивых минеральных сочетаний.
Подобно тому как пустынный загар образует как бы защитную корку вокруг обломков разнообразных пород, так здесь в мощном процессе кора кремния и гипсов образовала броню вокруг серных вершинок, защищая их от механического размыва, не допуская окисления серы и сохраняя от всесокрушающей деятельности ветра. Химизм пустыни здесь проявился в самых резких и ярких своих формах.
Совершенно другие картины приносят нам, геохимикам, полярные страны. Яркие впечатления скитаний в Хибинских массивах за Полярным Кругом, наблюдения над минералогией берегов Белого моря говорят нам о геохимическом цикле совершенно иного порядка.

Химизм северных стран нам хорошо известен по данным многочисленных экспедиций на Шпицберген, Гренландию и Новую Землю, но тем не менее общий его характер не сведен и не охвачен общей мыслью. Наши работы многих лет в Хибинском массиве за Полярным кругом, в условиях типичного полярного ландшафта, позволили углубить эти наблюдения, и неоднократно, многие сутки странствуя по нагроможденным осколкам горных плато, мы говорили о северной пустыне и проводили параллель с песчаными пустынями юга. Эта мысль неоднократно проскальзывала и у многих других путешественников, которые не только внешне морфологически сравнивали унылый, сглаженный полярный ландшафт с пустыней, но давали материал и для химических аналогий.
Однако, вопрос вообще оказывается гораздо сложнее и заслуживает более глубокого анализа. Что нас с химической точки зрения поражает в приполярной природе, — это огромное накопление механических продуктов разрушения и почти полное отсутствие химических. Низкие температуры, пониженное почвообразование, незначительный гумусовый покров, отсутствие богатой микро-жизни на поверхности земли — все это замедляет темп поверхностных процессов химизма, или даже делает часть из них совершенно невозможной; механическое разрушение опережает последние. И действительно, что может быть заманчивее для минералога, как эта свежесть всех минеральных образований полярного ландшафта? — Ни почвенный слой, ни зоны окисления или каолинизации, ничто не маскирует перед вами первичных образований. В превосходных месторождениях минералов Хибинских тундр, в древних пегматитовых жилах — все сохранилось в девственной красоте и чистоте — и все это лежит на поверхности в красочном виде.
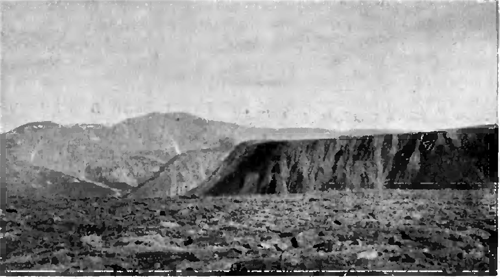
Медленность темпа химических процессов — первый признак геохимии полярных стран. К ним приходит второй — мощное механическое разрушение, связанное с колебаниями температур, разрушающей деятельности замерзающей воды, истирающее действие льда, могучая деятельность ветра с его буранами и вихрями. Огромные механические накопления обломков создают горные плато Хибин, мощные скопления осыпей запружают долины. В тех местах, где осадков мало, ярко сказывается континентальный полярный режим: крупные механические продукты остаются на месте; подобно солнечной пустыне юга, получаются области механических форм рельефа зоны выдувания продуктов разрушения; ветер сдувает с вершин и склонов мелкие частицы, от снега оголяются горные хребты и открытые плато, и зимняя влага накапливается лишь в понижениях, оставляя сухими и пустынноголыми мертвые "тундры". Именно среди такого ландшафта горных вершин хибинских массивов, часами и днями скитаясь по остроугольным скалам и осколкам, мы говорили о пустыне севера, и в ее морфологии читали картины знойных пустынь Африки, но разгадать ее не могли.
Северная пустыня еще ждет своего геохимика для понимания ее химических процессов.
Что же в противоположность северной картине, дает пустыня юга в тех характернейших ее чертах, которые нам рисуют Обручев, Пассарге или Вальтер в их классических работах? Что общего между полярным ландшафтом и теми картинами Каракумов, о которых мы говорили выше, и в чем между ними различие?
Сходство устанавливается, прежде всего, преобладанием и в тех и других условиях механических факторов разрушения: накопление продуктов механического разрушения, их перенос путем ветра и ливневых потоков, отсутствие поверхностного почвенного слоя и гумусовых горизонтов — все это внешне дает несомненно сходную картину. Отсутствие осадков создает обломочные и галечные пустыни, подобные плато Хибинских тундр; отдельные сильные воды или бурные потоки пролювиальных ливней лишь грубо и в первом приближении делят выносы, создавая сходство с несортированными ледниковыми наносами. Среди моря песков — останцы, неразрушенные ветром, но обвеянные и покрытые обломками скал; во всех этих картинах есть огромное сходство с пустыней полярного ландшафта: тот же бурный ветер, те же заморозки с раскалыванием и откалыванием глыб, тот же ландшафт безводных пространств механического нагромождения!
Но есть и огромное различие, которое в области химизма, создает непроходимую пропасть между пустынным режимом разных широт. В знойных субтропических пустынях мы должны считаться с рядом важнейших факторов геохимического порядка: огромной дневной инсоляцией, ускоренным темпом химических реакций и, наконец, характерным для пустыни направлением почвенных растворов — из глубины к поверхности.
Первый фактор — инсоляция — всем хорошо известен. Достигая 75—80° С, в жаркие солнечные дни, нагрев создает в верхних частях земной поверхности настоящие термальные условия, значение которых тем более важно, что высокий солнечный нагрев не всегда сменяется холодными ночами; так, например, в Туркмении ряд ночей летом давал среднюю температуру в 42° С, благодаря чему песок не успевал охладиться. Даже в условиях зимней поездки, мы наблюдали на Каракумах значение дневной инсоляции, при значительных, однако, колебаниях температур: ночью к восходу солнца температура воздуха опускалась до минус 7° С, днем начиналось быстрое потепление и уже к 2—3 часам дня, по измерению Д. И. Щербакова, песок нагревался до 30° С. И это в конце ноября месяца! Даже в апреле Обручев отмечал температуру песка в 63° С.
Повышенное нагревание вызывает огромную интенсивность химических процессов, ускорение их течения и перемещает направление реакций в сторону, отвечающую высокотемпературным условиям. Отсюда в этих условиях равновесия получается ряд таких минеральных тел, которые мы не привыкли видеть среди нормальных образований земной поверхности, а скорее среди типичных горячих жильных растворов. Все, что подвергается изменению при действии атмосферных факторов быстро изменяется, химизм распада и поверхностного разрушения идет до конца: намечается резкое разделение — на продукты химически стойкие: кварц, кальцит, и на продукты измененные и изменяемые — последние оказываются в более подвижном состоянии, чем первые; одни из них, как частицы каолина из разложенных полевых шпатов или выцветы солей легко уносятся ветром, другие — дают растворяемые соли и, разделяя судьбу пустынных вод, или инфильтрируются в глубину, или смываются в пониженные области (озера, шоры, такыры).
Таким образом, главная роль солнца заключается в расслоении механических продуктов пустыни на химически устойчивую часть, создающую основу пустыни и на подвижную, которая накапливается в строго определенных ее участках.
Другая особенность геохимических процессов пустыни заключается в направлении циркуляции тех растворов, которые наблюдаются в верхних горизонтах своеобразных песчаных и глинистых образований, формирующих облик пустыни. Конечно, после обильных осадков наблюдается нормальное проникновение воды в растворенных веществах с поверхности в глубину, но и этот ход процесса, как мы наблюдали в Каракумах, протекает далеко не так, как это наблюдается в наших широтах. В самых песках влага дождя проникает не глубоко: своеобразными капиллярными силами влага удерживается между частицами, сохраняясь в определенных горизонтах. Особенно замечательна судьба воды, падающей на такыр. Здесь проникновение воды в глубину почти невозможно: зализанная и замазанная поверхность такыра этому препятствует и вода может держаться, как в озере, 2—3 дня, но зато колосальное количество воды устремляется или в какие-либо случайные или искусственные впадины, или поглощается около такырными песками. Те же капиллярные силы — влагоемкость песка — не позволяют этим водам проникнуть далеко, и они сохраняются в виде своеобразных песочных водоемов, — из которых извлекают воду колодцы туркменов.
Говорить, таким образом, о каких-либо нормальных водных горизонтах в поверхностном режиме наших пустынь — мудрено; очевидно, только новый и очень детальный анализ этих явлений не в обстановке теоретической или лабораторной обработки, а в ряде непосредственных длительных, стационарных наблюдений на месте — смогут пролить свет на эти явления.
И вот на фоне этих основных черт пустыни необычайно интересным является ход циркуляции водных растворов. В самых песках, в огромной подавляющей части нашей пустыни так, как мы наблюдали ее в Каракумах, такая циркуляция, если и есть, то выражена весьма слабо. Зато на площадях такыров и особенно связанных с ними шоров мы наблюдаем цикл геохимических явлений несомненно большого значения. Солевые растворы из глубин как бы вытягиваются к поверхности, образуя выпоты солей разного состава. При высыхании после дождей мы наблюдали в Каракумах характерную картину, когда темно-серая поверхность рыхлого шора как снегом покрывалась выцветами извлеченных из глубин солей. Однако, далеко не так просто протекает эта реакция, как принято, думать: под поверхностью такыров и, вероятно, шоров создается особый горизонт отложений гипса, который в Каракумах необычайно постоянен и дает нам те горизонты репетекских гипсов, которые столь типичны, очевидно, для всего Закаспия и представляют подтакырные пески, богатые слюдою и зацементированные сплошным кристаллическим гипсом.
Наконец, ярким видом миграции к поверхности является перемещение кремнезема, о котором до сих пор мы знали сравнительно мало, но которое играло огромную роль в пустынях Австралии и южной Африки. Мы знаем, что знаменитый пустынный загар с лакированною блестящею поверхностью камней является одним из видов такой миграции подвижного кремнезема вместе с солями железа и марганца. Мы знаем, правда в общих чертах, грандиозность этого процесса в центральных частях Австралии, где в области, определенной известным минимумом осадков, идет своеобразное превращение песков в кварциты с опаловым цементом. С этим же характерным процессом миграции кремнезема к поверхности столкнулись мы и в пустыни Каракумов, и их описанию мы посвятили выше несколько строк 7).
Наконец, огромным химическим фактором субтропической пустыни, и, это может быть сразу покажется не вполне очевидным, нужно считать ветер. До поездки в Каракумы я не понимал его геохимического значения, но, когда в течение ряда недель скитания испытаешь песчаную бурю и поймешь ту огромную и притом организующую и дифференцирующую силу ветра, тогда его роль вырисуется во всей яркости тех картин, которые рисовал в своих законах дефляции Вальтер. Ветер пустыни в его бесконечных вариациях не может не делить рыхлые элементы разрушающихся пород, и эоловый процесс не есть миф, а реальная действительность. Когда вы, подобно нашему отряду, пересекаете пустыню Каракумов по меридиану на несколько сот километров, вы не можете не обратить внимания на постепенное изменение характера песков: в районе коренных пород Центрального Унгуза вы встречаетесь с галечными и обломочными пустынями и очень крупно-зернистым песком. При господствующих северо-восточных ветрах заметно, как при движении к югу величина частицы падает, как совершенно незаметно, еще в 100 клм. от культурных оазисов, вы начинаете в песках подмечать своеобразные черты лёсса — песок менее чист, пачкает, его склоны не всегда определяются углом сыпучих тел, а иногда, как в лёссе, прямо вертикальны. Микрорельеф постепенно меняется, и незаметно вы входите в полосу предгорий, где ваши пески с карбонатною частицею уже перемываются и смываются арычными и пролювиальными водами.
Таким образом, эта дифференциация, механическая по существу, приводит в результате к дифференциации химической, и частицы легкие и легче истираемые солей карбонатов и глинистых продуктов уносятся дальше, чем скопления устойчивого кремнезема. Недаром под некоторыми такырами мы замечали целые скопления блестящей на солнце золотистой слюды.
Что же после всего сказанного представляет собою пустыня с геохимической точки зрения?
Геохимически пустыня представляет собою область восходящих растворов, без почвенного гумусового покрова, из механически накопленных частиц, дифференцированных силою ветра, с общим преобладанием химически наиболее стойких систем и местными скоплениями подвижных неустойчивых химических группировок.
Можно ли так определить нашу Средне-Азиатскую пустыню? Да, можно; но это определение охватит лишь одну ее грань — явления химизма и, потому, будет касаться лишь одной стороны целого сложного природного комплекса явлений, целого географического ландшафта, который мы называем пустынею и которого мы все-таки еще не знаем! 8)
1) Подробное описание Каракумской экспедиции и ее научных и практических результатов сейчас подготовляется к печати. В "Природе" будет помещен очерк, составленный Д. И. Щербаковым.
(стр. 16.)
2) Если не считать классической работы В. Обручева и отдельных заметок Букинича, Лессара, Коншина, Калитина, Комарова и Нацкого.
(стр. 17.)
3) Любопытно отметить, и это имеет большое геологическое значение, необычайный характер мумификации и засыхания трупов умерших животных. При колоссальной инсоляции летнего дня мы не наблюдаем массовых и длительных явлений разложения гнилостыми бактериями, а весьма быстрое высыхание с сохранением общего облика.
(стр. 19.)
4) Знаменитые репетекские гипсы, т. е. гипсовые кристаллы, цементирующие песок, здесь весьма распространены; у местного населения они носят наименование "Дер-даши“ и употребляются для расчесывания шерсти или растирания кожи. Мы с успехом применяли камень и для точки ножей. Каково соотношение этих репетекских горизонтов с шорами, пока не ясно.
(стр. 19.)
5) Хотя и в ослабленной степени.
(стр. 23.)
6) Правда, при условии нахождения в глубинах кремнезема в подвижной форме.
(стр. 24.)
7) Впервые миграцию кремнезема в Средне-Азиатских пустынях подметил Н. А. Димо, который рассказывал мне осенью 1925 г. о нахождении им на такырах тонких пленок подвижного кремнезема.
(стр. 29.)
8)
!) См. некоторые новейшие работы по химии пустыни: А. Ферсман. О характере гипергенных процессов в местностях с пустынным климатом. Доклады Академии Наук. 1924, серия А, стр. 97. I. Wаlther. Das Gesetz der Wüstenbildung. Leipz. 1924 (4-ое издание). E. Blanck und S. Passarge. Die chemische Verwitterung in der agyptischen Wüste. Hamburg. 1925.
(стр. 32.)