
"Смена", №16, октябрь 1924 год, стр. 6-8

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: 15-ти-летняя узбекская девочка Кумри выдана замуж. Она целыми днями плачет, так как ей хочется еще играть с подругами и муж у нее деспот. Ее брата Кочкора отец «записал» в Комсомол, «чтобы от русских уважения больше было». К Качкору пришел русский парень комсомолец Калач, и Кумри слышала, как он говорил с ее отцом о том, почему мусульманские женщины ходят закрытыми и не могут быть ни в чем равными мужчинам. Над этими словами задумывается. Ее тянет к Калачу. В новом городе (европейская часть) на демонстрации встречает Калача, открывает ему свое лицо и просит пойти к ним и рассказать ей то, чего она не знает. Возвращается домой.
ЧЕМ ЭТО так хорошо пахнет? А!.. Это свежие лепешки...
Он сказал, что придет обязательно... И расскажет про веселых девушек в красных платочках... Обязательно...
Что это? Уже дом скоро?..
Этот беловолосый "камсамол" будет ей говорить розовые, брызжущие смехом, слова, а Кумри будет слушать и ей захочется смеяться... Так же, как там... в красных платочках... Кумри ведь всегда хочется смеяться, когда она видит веселых людей... Да.
Она теперь будет ждать..
И НА ДРУГОЙ ДЕНЬ, утром, когда солнце еще не успело расплавить глину и было веселым и ласковым, когда Чакназа еще не накурился анаши, Кумри сказала:
— Чакназа, запиши меня в Комсомол...
Чакназа посмотрел на нее. Потом он сказал:
— А?
И так, как больше ему лень было говорить, он еще раз посмотрел на Кумри, потом на камчу, что висела на стене, и стал опять пить чай.
ВАСЬКА КАЛАЧОВ или "Калач", как его звали в союзе, был из тех ребят, которые слишком веселы и горячи, чтобы занимать большие ответственные посты, но, в то же время, достаточно активны и энергичны, чтобы блестяще проводить всякие ударные работы. Такие ребята обыкновенно выручают во всех экстренных случаях, всегда готовые на какую угодно работу.
Но больше всего Калача любили за его неиссякаемую инициативу, еще более неиссякаемую веселость и как хорошего товарища.
В клубе после вчерашнего спектакля шла уборка... Мишка Гаврин сидел на сцене в одних трусиках и барабанил на рояли. Ребята гремели скамейками. В зале крикнули:
— А-а, Калач!
Мишка ударил "барыню". Влетел Калач. Оторвал пару "чечеток". Потом поманил пальцем стоявшего без дела Касыма, вскочил на сцену, взял Мишку под мышки, поднял с табурета и сказал:
— Двинули в старый город.
— За каким чертом?..
— К Кочкору... дыни шамать.
— Даешь!
— Понесли-и-и на когтях... — взорали все трое и выкатились на улицу. В розовом облаке мягкой горячей пыли в ногу зашагали к старому городу.
Дорогой Калач вдруг остановился, посмотрел на Мишку, взялся ладонями за колени и прыснул.
— Миш, а, Мишь! Да ты, никак, в одних трусах... Ха-ха-ха... Браво! Вот паника-то будет в старом городе.
— Каждый свой шаг нужно использовать для борьбы с предрассудками в массах...
— Деловито тяпнул. Лозунг, прямо лозунг. Эх, ты, Геркулес, — щелкнул Калач Мишку по коричневой мускулистой ляшке, — не подкачай...
Всю дорогу потешались и ржали.
СМОТРИ, БРАТВА. Ах, кикимора!.. — захохотал Калач и указал пальцем вперед.
На крыше балаханы, ноги калачиком, сидел сартенок и равномерно покачивался взад и вперед.
— Коран учит...
Когда подошли ближе и стало слышно его монотонное завывание. Калач опять вскрикнул:
— Братцы. Да ведь это Кочкор. Вот зверь...
— Как Кочкор? Комсомолец-то... — удивился Мишка.
Кочкор услышал, сорвался с места и торопливо спрятал книгу за спину.
— Отец... заставляет... Правда, — смущенно бормотал он, когда ребята вошли в маленькую деревянную дверцу с резными узорами.
И большие, вечно испуганные глаза его ждали от товарищей презрительной, злой насмешки.
— Ладно, ладно, Кочкор... не оправдывайся, знаю я, — хлопнул его по плечу Калач, — знаю. Наплюй ты на это дело... Ну, если уж нельзя иначе, делай вид, что учишь, а сам наплюй. Не веришь ведь... И кончено.
Ожил Кочкор, заблестели глаза.
— Ну, хорошо, что вы пришли... Теперь мне можно не учить — скажу: гости пришли... Вот сюда заходите.
В глиняных стенах непривычно и странно раздавались звонкие голоса.
Ковер на полу, в нишах стен пачки разноцветных одеял и подушек и все.
— Так и живут, без столов и стульев? — спросил Мишка, недавно приехавший "из России".
— Так и живут. На ковре постилают платок, на платок — поднос, а на подносе чего, например, душа твоя желает. Понял?
Уселись. Закурили. Кочкор вышел и долго не возвращался.
Слышно было — говорит с кем-то.
УСЛЫШАЛА КУМРИ молодые и сочные голоса и схватилась за грудь, чтобы сердце не выскочило. И совершенно неудержимая улыбка защекотала отвыкшие губы. Бросилась к брату.
— Кочкор, миленький... Я тоже туда пойду... Ладно?
— Куда... Что ты... С ума сошла! — испугался Кочкор. — Убьет ведь...
— Никто не узнает... Кочкор, брат!..
Схватил Кочкор дыню и убежал. Прислонилась к стенке Кумри, брови нахмурила и пальчик на губку.
Кочкор внес громадную белую дыню.
— Э-эх. Тц-цц... — причмокнул Калач, — вот это дынька. Отец дома?
— Нет.
— Чакназа?
— Тоже нет.
— Зови сестру, что же ты нас не познакомишь до сих пор...
Опустил глаза Кочкор. Желтое лицо стало растерянным и жалким. Стоял он, опустив голову и молчал.
— Что, боишься? Они ведь вечером придут... Разве только жены скажут...
Как истукан, стоял Кочкор. Все молчали.
За дверью тоненький голосок:
— Кочко-ор...
Молчание.
Тогда дверь чуть приоткрылась, и в щелку проскользнула Кумри. Она стала посреди ковра в длинном розовом платьице и красных шальварах до пяток, без чадры, с открытым бледно-смуглым лицом.
— Издрасти... — робко улыбнулась, поздоровалась она и неумело протянула по-европейскому обычаю руку Калачу.
— Здравствуй, джаным, здравствуй... с непривычной и неожиданной нежностью сказал Калач и пожал ее маленькую ручку. — Сюда садись! (между собой и Мишкой). Это мои товарищи, комсомольцы.
— Камсамол...
— Да, да. Дай им твою руку.
Глаза Кумри искрились робкой, позабытой радостью.
Мишка, у которого от непривычной позы на ногах вздулись страшные бугры мускулов, осторожно подержал руку Кумри, как делал это с маленькими.
Калач заметил:
— Это замужняя женщина, — сказал он по-русски,
— Брось ты арапа-то заправлять...
— Это не арап, а грустный факт, милый мой.
Кочкор вздрогнул, выглянул за дверь. Потом прикрыл ее плотнее и, вдохнув, начал резать дыню.
— Это что? — увидела Кумри на груди Калача брошку-медальон с изображением Ильича.
— Это Ленин. Знаешь Ленина?
— Ленин... знаю...
— А кто Ленин, что он сказал, знаешь?..
— Нет... — не отводя глаз, покачала головой Кумри.
— А он сказал, что женщина должна ходить без чадры, что муж не должен ее бить и заставлять работать больше себя... Ленин еще сказал, что женщина... так же, как мужчина, может ходить в школу учиться и женщина может делать все, что делает мужчина.
— И обедать вместе. С мужчинами?
— И обедать, — улыбнулся Калач, — и работать и гулять... все, все...
Кочкор подвинул поднос.
— Кушай дыню.
Гости образовали круг и зашвыркали соком дыни.
Кумри задумалась. Опять положила было палец на губу и вдруг спросила:
— Нет, — невозмутимо отвечал Калач, — Ленин не мулла, но Ленин самый ученый человек... большой учитель он...
— А ты что... его ученик?
— Да, да... да... — засиял Калач, — ребята, слышите, что она говорит. "Ты", говорит, "ученик Ленина"... Да, да, Кумри, мы его ученики. Ты знаешь, сколько у него учеников?.. Больше... больше, чем людей во всем Ташкенте. Да, да... еще столько и еще столько... Это только молодых, комсомольцев...
— Камсамол?..
— Да. Вот это и есть Комсомол... и все они любят его, как... своего отца и больше, куда там...
— А где он живет. В новом городе?
— Э-э, нет... ишь ты чего захотела... он далеко живет... далеко-о-о, далеко... в Москве, три с половиной тысячи верст отсюда...
Кумри замолчала. Долго разглядывала маленький портретик. Он казался ей страшно знакомым, но она никак не могла припомнить, где видела его.
Она зажала в кулак брошку, уставилась широко раскрытыми глазами в одну точку и сидела неподвижно.
Гости так наелись, что вздохнули Калач погладил рукой мягкий ковер.
— Эх, вот где стоечку давнуть гоже.
Вскочил и хлопнул ладонями.
— Миш, сообразим стоечку?
— После дыни-то?
— Ничего, Миш, я не больше, как на три фунта прибавился...
Мишка лег на спину и поднял вверх руки. Калач положил на поднос папиросу, сбросил тюбитейку, взялся за Мишкины руки, поднялся и, как резиновый, стал вытягиваться упругим телом вверх.
Кумри тоненько пискнула от восторга.
— Выжал... Солидно, клянусь печенкой.
— Курить после упражнений вредно, — сообщил Мишка, когда Калач потянулся за папиросой.
— Брось ты, физкультурщик...
Кочкор, часто вздрагивая, тревожно оборачивался к двери (оконце высоко и в него видно только верхушку мечети и небо).
— Дай мне этого Ленина, — сказала Кумри Калачу.
— Восьми, возьми, Кумри, возьми.
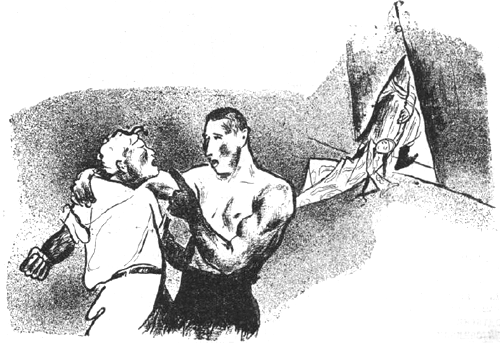
Дверь открылась. Все замерли.
Медленно, покачиваясь, вваливался Чакназа. Вошел, стал у двери, широко расставив ноги, и смотрел на представившуюся сцену. На желтом блестящем лице с полузакрытыми пьяными глазами ползала страшная улыбка анашиста.
Кочкор вскочил, как подброшенный и стоял в углу, трясясь всем телом. (Калачу показалось, что он схватился за нож на поясе).
Кумри уцепилась за локоть Калача и прижалась к нему, глазами, полными ужаса, впившись в Чакназу.
Гости растерялись и, не зная, что делать, тоже смотрели на него.
Оскалив желтые лошадиные зубы, Чакназа тяжело шагнул к Калачу.
— Мой джена, — взвизгнул он.
Схватив Кумри за руку, он рванул ее с такой силой, что свалил на ковер Калача, а Кумри очутилась у двери.
— Не тронь. Не тронь, — рванулось в углу, словно струна лопнула.
Кочкор выхватил из ножен нож и кинулся к Чакназу.
Калач успел схватить его.
— Ребята, помогай.
Глаза у Кочкора рвались из орбит. Весь он дрожал, как в лихорадке, метался и рвался из рук.
— Пустите меня... Пустите меня. Он убьет ее... Убьет... Пустите... Он два джена убил... Он, пустите меня, что вы делаете...
Его свалили, отняли нож, держали крепко. А он с невероятной силой боролся, бился головой об пол и с пеной на губах, мешая узбекские слова с русскими, кричал: "пустите".
Чакназа за руку поволок Кумри через порог.
Тут Калач бросил Кочкора и, уронив с головы тюбитейку, ринулся на него.
— А-а... Так ты вот как...
Но не успел он взметнуть кулаком, как почувствовал себя в знакомых железных об'ятиях Мишки.
Взбешенный он с горящими глазами повернулся к Мишке и рванулся.
— Иди ты... Чего тебе нужно...
Но под холодным взглядом Мишки тут же осел.
— Вася... не увлекайся, — погрозил пальцем Мишка и потащил упирающегося Калача вглубь комнаты.
ЭТУ НЕДЕЛЮ Калач угрюмый, как преступник. Никогда таким не видели его. На все расспросы отмахивается рукой.
Ни о Кумри, ни о Кочкоре не было ни слуху, ни духу.
И каждый лень, как только с неба начинало струиться смуглое золото заката и с мечети старого города доносился первый завывающий зов муллы, Калач уходил в старый город. Он бродил там ночами в темных, словно залитых дегтем, кривых улицах вокруг дома Кумри.
"Что я наделал, что я наделал"...
Раз кто-то угодил ему камнем в шею. И ни человека, ни собаки. Ни звука, ни шороха.
Глиняная могила.
И все-таки удалось Калачу узнать, где заперт Кочкор и как туда пробраться. Долго совещались трое и решили попытаться выручить его и Кумри.
ЧАС НОЧИ. Тихо, как на мазаре. Калач, Мишка и Касым идут в старый город и шопотом переговариваются.
 |
Взбирается Калач Мишке на плечи, подтягивается на руках... |
Пришли.
И в дом и во двор можно проникнуть только через дверцу. Она заперта. Нужно лезть на крышу, а оттуда уже во двор.
— Становись сюда, — шепчет Калач, — да пригнись малость, а то на тебя-то лезть не меньше, чем на крышу.
Взбирается Калач Мишке на плечи, подтягивается на руках и, ободрав пряжкой сандалий Мишкино ухо, оказывается на плоской глиняной крыше, поросшей сухой травой. На фоне черного неба мелькнула белая Калачева голова в тюбитейке и скрылась.
Калач во дворе.
Тихо. Собак нет. Хорошо. Нашел дверь. Задвинута снаружи доской.
"И все".
За доску. Нужно, как можно, тише... И кажется Калачу, что доска сейчас неминуемо упадет и так загрохочет, что разбудит весь город...
Нет... доска вынулась тихо... Проклятая дверь взвизгивает...
— Кто? — хрипло вскрикивает Кочкор и вскакивает.
— Тш-ш... ша.
Узнав Калача, он хватает его за руки, трясет их и обнимает его.
— Идем... А Кумри?..
Кочкор махает рукой.
— Вчера... схоронили...
— Как... Умерла...
— Потом расскажу... Идем скорей.
Когда слезли с крыши и очутились на улице, Кочкор сказал:
— Ну, больше я сюда не приду.. никогда.
Дорогой рассказывал, что произошло в их глиняном дворе.
Калач переводил Мишке.
— Постой... ну, да... Помню, как отец ударил меня камчей по лицу... Дальше ничего не помню. А потом, когда встал, был уже день. Пощупал лицо... Оно и сейчас, видишь, какое, а тогда было прямо, как ведро... Как же, думаю, Кумри... Кое-как добрался до женской половины... Смотрю — лежит она голая на одеялах, вся синяя... и по телу красные рубцы от камчи... Две жены мочат ей голову, а она не двигается. Думал, умерла... Потом зашевелилась и меня позвала... тихонько-тихонько... когда жены ушли, она разжала кулак, а там тот Ленин, что ты дал ей... вся ладонь исколота... в крови... Попросила, чтоб я ее поцеловал и заплакала, и я... тоже плакал...
А потом говорит мне: напиши письмо беловолосому "камсамолу", а сама как пошевелится, так и кричит... — больно. Стала мне говорить, а я стал писать... А отец пришел, увел меня и запер... И четыре дня я сидел... у-у, с—сволуш... — обернулся Кочкор назад и задрожал, — айда скорее...
— Ну, ну, потом-то...
— Да чего там потом... Выпустили уж когда... смотрю на том же месте лежит она уже... мертвая... Красным одеялом закрыли ее... только лицо видно... Ну, и на другой день схоронили... и все... а кулак так и не могли разжать... в правой руке Ленин остался... Ух... живодеры... и не заплакал никто...
Длинным рукавом потер глаза Кочкор и из-за платка, которым был опоясан, вытащил измятый листок бумаги.
ВЕСЕЛЫЙ розовый Камсамол (это слово по-русски). Мое сердце говорит тебе спасибо, что ты пришел и еще дал мне Ленина. А я скоро умру, Чакназа меня раздел и бил камчей и ногами и кусался зубами и страшно смеялся.
Камсамол, возьми Кочкора к себе и не давай отцу. Пусть он лучше поедет к Ленину учиться. И еще, когда Кочкор или ты увидишь Ленина, скажите ему, что Кумри тоже любит его больше всех за то, что он сказал, чтобы женщины ходили открытыми и делали все, как мужчины. А почему он не сказал, чтобы не выдавали замуж маленьких? Если он комиссар, то скажи ему, чтобы он содрал все чадры и сжег и еще, чтобы он приказал не выдавать замуж маленьких. Это уже хуже всего. Я никого не любила, только теперь Ленина люблю. Раз он так говорит, значит, он очень добрый и такой же веселый, как ты и ваши девушки в красных платочках. Обязательно. Прощай. Только смотри не забудь. Кумри.
1) Она спрашивает так потому, что у мусульман (верующих, конечно) духовное лицо, мулла, считается самым ученым.
(Стр. 7.)